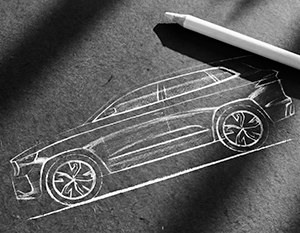Не так давно Фонд развития промышленности – ключевой институт развития – отчитался: заявки на льготное финансирование выросли на 60% за первые пять месяцев 2025 года. Казалось бы, разве не повод для оптимизма? Бизнес рвется к льготным кредитам, а региональные филиалы ФРП увеличивают плановое число займов. В целом в 2024 году малый и средний бизнес получил более 1 трлн руб. господдержки, почти 74 тыс. предпринимателей воспользовались гарантиями и поручительствами.
Осталось понять, является ли рост объема и числа выданных льготных кредитов маркером экономического успеха или, наоборот, растущий спрос на господдержку сигнализирует о нарастающих кризисных явлениях.
Начнем с того, что льготное финансирование осуществляется в условиях жесточайшей денежно-кредитной политики. Центробанк, стесненный инфляцией, уже больше года держит ставки на очень высоком уровне. Бизнес – и это хорошо было видно по дискуссии на последнем ПМЭФ – уже открыто подает сигналы бедствия.
В этом смысле льготное финансирование от институтов развития – глоток воздуха для бизнеса, продолжающего инвестировать в развитие в этих тяжелых условиях. При ставках коммерческих банков, превышающих 25% годовых, 1-5% ставки займов, выдаваемых ФРП, воспринимаются как «бесплатные» деньги. И спрос на такую господдержку растет. Например, глава «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа на днях заявил: «ФРП совершенно точно по своим масштабам несопоставим с потребностями экономики... Его нужно радикально увеличить. Цифры должны быть на два порядка выше тех, что сегодня есть».
С одной стороны, высокие ставки по кредитам охлаждают экономику, а вместе с ней инфляцию. С другой – растущая господдержка и льготное финансирование отчасти нивелируют эффект охлаждения, вызванный жесткой ДКП. Нет ли здесь противоречия?
Ответ на этот вопрос: и да, и нет. Льготное кредитование действительно в значительной мере нивелирует жесткость ДКП. Но делает это для отдельных проектов и заемщиков. То есть априори компании, претендующие и получающие поддержку институтов развития, ключевым из которых на сегодняшний день является Фонд развития промышленности, находятся в привилегированных условиях в сравнении с предпринимателями, которые кредитуются под коммерческий процент. Почему?
Ответ на этот вопрос лежит в плоскости государственной экономической и промышленной политики. Прерогатива власти – определять направления, сферы и территории приоритетного развития. Например, самые привлекательные условия по кредитам предоставляются предпринимателям, реализующим инвестпроекты на новых территориях РФ. Дополнительных объяснений не нужно – беспрецедентные разрушения требуют серьезных инвестиций в восстановление и развитие. При этом сопутствующие предпринимателям риски отчасти компенсируются дешевизной денег.
- Почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев
- Оценен ущерб авиакомпаний от сбоев авиасообщения в начале июля
- Путин поручил переключить господдержку на кредиты для профессий технологического лидерства
А вот приоритет, по которому есть определенные вопросы, – это инновационность. Дело в том, что сегодня на равных основаниях поддержку могут получить проект по передовой микроэлектронике, способный закрыть критическую брешь в суверенитете, и… очередной бетонный завод или швейная фабрика. Цель технологического рывка подменяется финансированием рутины. В итоге мы получаем своеобразную «технологическую инфляцию» без реального эффекта с точки зрения решения задач государственной промышленной политики.
На это, собственно, и обратил внимание президент Путин во время своего выступления на ПМЭФ. Глава государства призвал проанализировать деятельность фондов и институтов развития в технологическом направлении. «На поддержку технологического обновления российской экономики заточены почти два десятка фондов и институтов развития», – сказал Путин. Притом что у каждой такой организации своя методология и подходы, их задачи часто дублируют друг друга, создавая ненужную ведомственную конкуренцию за одни и те же проекты.
Иными словами, президент призвал, во-первых, строго соблюдать критерий инновационности, а во-вторых, снизить бюрократическую нагрузку на предпринимателей, реализующих инновационные проекты с привлечением госфинансирования.
Приведу пример. Сейчас ключевым требованием для выдачи льготного займа является залоговая стоимость, которая гарантирует возвратность займа. Именно этот критерий является непреодолимым препятствием для большинства претендентов на льготы. Возвратность средств? Безусловно, важна. Но разве залог – это мерило стратегической значимости проекта? Индикатор его инновационности? Скорее, наоборот, это надежный способ отсечь как раз самое ценное – рисковые, но потенциально прорывные проекты, где материальных активов под залог может быть минимум.
Президент Путин поднял вопрос об эффективности использования средств институтов развития. При этом поднял его не в контексте того, что нужно что-то урезать. Наоборот, речь идет о расширении господдержки, но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.