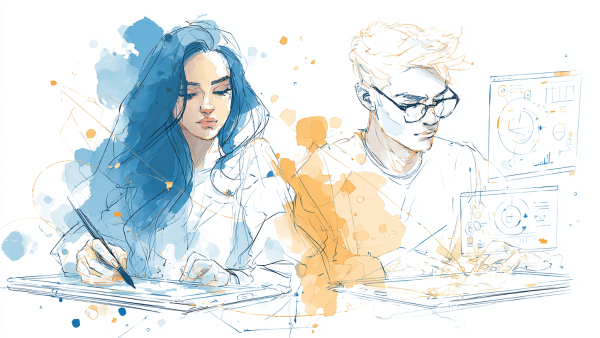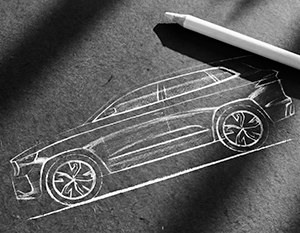В нашей культуре параллельно происходят два любопытных явления. В мире кино идут бурные споры о новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». А в области литературы самой скандальной книгой становится новый роман Александра Проханова «Лемнер». У меня нет ни цели, ни желания анализировать какое-либо из этих произведений по существу. Мне кажется, гораздо важнее тот факт, что одному из творцов, внезапно оказавшихся на пике актуальности, 88 лет, а другому – 87.
Я с почтением отношусь к обоим, но, при всем уважении, в этом возрасте было бы уместнее почивать на лаврах. Способность к осмыслению действительности имеет свои физиологические пределы, природу обмануть невозможно. Зато, как оказывается, можно обмануть публику, принимающую давно сформировавшийся, застрявший в прошлом взгляд художника на мир за его высказывание о современности.
Это не разовый курьез, а один из примеров инерционности мышления в нашем мире, который, казалось бы, помешан на стремлении идти в ногу со временем. Если говорить о литературе, то это хорошо показал прошлогодний сезон национальной премии «Слово», по итогам которого были награждены, в частности, тот же Проханов, его ровесница Юнна Мориц и поэт Вячеслав Куприянов, который младше них на пару лет.
Мы уважаем старость, и это хорошо. Но мы не умеем слышать молодых, и это плохо. Нам проще сосредоточить внимание на привычных фигурах.
Мы можем неделями обсуждать очередное интервью 76-летней Аллы Пугачевой, которая никак не станет иноагентом. Хотя уже давно следовало выкинуть ее из головы, сказав спасибо за былые хиты.
Да что говорить, если половина новостей в России повествует о том, какую очередную сентенцию произнес 79-летний Дональд Трамп. Допустим, его должность оправдывает повышенное внимание к нему, но беспрерывная шумиха вокруг этого старика, отделенного от нас океанами, лишь подчеркивает общую тенденцию.
Было ли когда-нибудь иначе? Разумеется. Вспомним 1912 год. 32-летний Александр Блок присутствует в роли старшего товарища и литературного генерала на первом заседании «Цеха поэтов», благословляя пишущую молодежь, которой верховодит 26-летний Николай Гумилев. Пройдет три года, и читающая Россия услышит голос Владимира Маяковского, которому исполнилось 22. Где же сегодняшние «красивые, двадцатидвухлетние», голос которых был бы слышен? Вопрос, увы, риторический.
Что касается молодой литературы, то она вся сегодня инкубаторская. Едва человек приступает к первым пробам пера, как его берет в оборот система литучебы: семинары, мастерские, школы креативного письма, солидные премии для категории «до 35» или «до 27». Такой развитой инфраструктуры для работы с творческой молодежью и близко не было в Советском Союзе.
Для юных музыкантов, художников, актеров действуют арт-кластер «Таврида» и прочие центры творческого развития. Причем эти институции работают не вхолостую, они дают продукт, порой даже симпатичный. Но я не могу сказать, что молодые сегодня создают пресловутые «смыслы», конструируют будущее. О будущем российская аудитория по-прежнему предпочитает гадать на кофейной гуще очередного романа Виктора Пелевина (63 года).
Может быть, дело в том, что старшие, воспитывая молодежь, хотели бы видеть в ней не более чем продолжение самих себя, а еще лучше – своих собственных отцов и дедов. Где такие воспитанники могли бы найти себе место? Только в хоре, где привычно солируют старики.
Наше общество, как мне кажется, чувствует страх перед каждым новым поколением, которое входит в жизнь. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Но миллениалы выросли, они уже не молодежь, а становой хребет нашего народа. И ничто не рухнуло; оказалось, что на этих людей можно опереться.
Теперь боятся зумеров: мол, и к реальной жизни они не приспособлены, и от гаджетов слишком зависимы, и читать не приучены, а как у них с патриотизмом, вообще непонятно. При этом за культуру поколения в целом принимают крайние формы ее проявления: скажем, технологический сленг или речь городских низов. Но такое упрощение искажает нашу оптику.
В то же время, например, недавно вышедший реалити-сериал «Монастыринг» показывает, что между молодыми блогерами, на первый взгляд ничего не желающими знать, кроме своих гаджетов, и православными монахами, людьми совершенно иного склада, возможно понимание.
- Объявлены 100 победителей конкурса «Быть, а не казаться!-2025»
- В «Сенеже» обсудили роль молодежи в цифровой экономике
- Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога»
Мне кажется, навязчивый страх межпоколенческого раскола должен уступить место доверию. Было бы непродуктивно считать, что молодые, предоставленные самим себе, то есть не обложенные флажками параноидальных запретов и воспитательных мероприятий, способны только распевать песни иноагентов на улицах городов. Кто-то, конечно, так и поступит, иные же заговорят собственным голосом, заново определят для себя вечные ценности Родины, творчества и свободы.
Почему это вообще важно? Потому что нашей стране после того, как мы завершим СВО, потребуется общенародная мобилизация всех сил ради мирного развития, которое неизбежно станет продолжением войны другими средствами.
К примеру, мы в последнее время слышим пожелания, чтобы женщины начинали рожать как можно раньше; некоторые даже предлагают поощрять школьниц к деторождению. Это понятно, стране нужны новые граждане. Но разве менее важно, чтобы люди как можно раньше начинали думать, творить, создавать что-то полезное?
Недавно свой 70-летний юбилей отметил Билл Гейтс, и по этому поводу стоит вспомнить, что он и его ровесники еще в школьном возрасте начали технологическую революцию, которая на полвека продлила мировое господство Соединенных Штатов, в то время переживавших не лучшие времена. Нам бы сейчас такое поколение пригодилось. Но нужно дать ему раскрыть свое истинное, а не навязанное содержание, нужно быть готовыми расслышать его подлинный голос.
Ведь в конечном счете будущее все равно определят те, кто придет после нас, хотим мы того или нет.