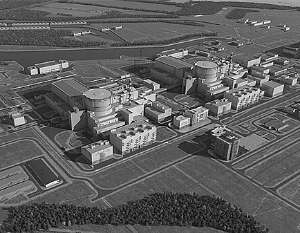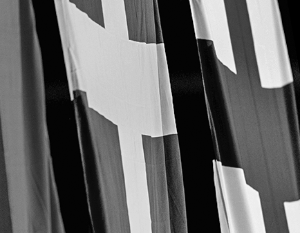В праздники – День защитника Отечества и День Победы – мы обращаемся к гражданским святыням России, местам воинской доблести и исторической памяти. Так появляются общенациональные светские ритуалы, которые кажутся современникам естественными, чуть ли не вечными, существовавшими всегда на фоне сменяющих друг друга эпох. Один из главных таких ритуалов 23 февраля – возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, у стен Московского Кремля.
Однако, как это ни кажется сегодня удивительным, истоки этой великой традиции довольно далеко отстоят по времени не только от боевого крещения Красной армии (конец зимы 1918 года), но и от Дня Победы в Великой Отечественной войне.
И еще удивительней, что даже в такой монолитной стране, как Советский Союз, создание мемориала не обошлось без элементов внутренней борьбы и подспудного конфликта, как теперь любят говорить – без сопротивления материала.
Мы почти забыли, что целых семнадцать лет, с 1947 по 1964 год, День Победы в нашей стране даже не был выходным. Нет, официальный праздник никуда не делся, но отмечали его по возможности тихо, без особых торжеств.
Сегодня нам это кажется почти невозможным, но у подобного положения вещей было как минимум три серьезных причины. Две, связанные друг с другом – общего, и одна – казалось бы частно-исторического, но очень характерного для понимания внутренней структуры СССР как государства, характера.
Первая, главная и понятная – Победа в войне далась народу очень тяжело. Слезы были очевидней праздника, и руководителям страны хотелось развернуть народ к оптимистичной теме успешного восстановления жизни во всей ее полноте, к надеждам на будущее, движению к коммунизму. Кроме того, в идеологическом плане партийные лидеры, видимо, не хотели, чтоб праздник Победы в народном сознании вытеснял годовщину революции. И здесь – со своей колокольни – они были правы. Для миллионов советских людей, потерявших близких в Отечественной войне, ее события оставались частью их личной судьбы, боли, трагедии и преодоления. А революция и Гражданская война все дальше уходили в разряд символов и пропагандистских клише.
Но не менее важным мотивом не включать 9 Мая в список главных советских торжеств стало сложное отношение позднего Сталина и Хрущева к маршалу Жукову, накрепко связанному с Победой в сознании людей, переживших войну.
Бюрократы из ЦК и обкомов были в ужасе, когда в конце 1940-х годов, в бытность Георгия Константиновича в почетной ссылке на Урале, свердловские демонстранты, приветствуя командующего военного округа на Первое мая, скандировали: «Жуков! Жуков!».
Сталин (надо отдать ему должное) настроения народа понимал – и маршала Победы в Москву вернул.
Хрущев же, дважды обязанный Жукову властью, а то и жизнью, простить этого не мог и поместил Георгия Константиновича чуть ли не под домашний арест. Какие уж тут торжества.
Однако сама идея создания мемориала Неизвестному Солдату в Москве появилась как раз в хрущевские времена.
В 1956 году полковник-артиллерист Николай Николаевич Зверев прочел в «Литературной газете» небольшую заметку, что подобный памятник собираются открыть на Украине в Киеве. Киев вызвал у него резкое возражение – с его точки зрения, мемориал мог быть только общенациональным (какая проницательность, учитывая дальнейшую развязку!). И он написал письмо на самый верх.
Письмо Зверева дошло до ЦК, и даже вышло постановление:
«Поручить тт. Шепилову, Жукову, Брежневу и Фурцевой рассмотреть вопрос об увековечении памяти павших в Великой Отечественной войне и о сооружении памятников победы над врагом, и свои предложения внести в ЦК КПСС».
Однако уже через год Хрущев расправился с Шепиловым и Булганиным, придумав «антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина и примкнувшего к ним Шепилова». Понятно, что о памятнике забыли.
К теме вернулись спустя десятилетие. В 1966 году, в дни подготовки празднования 25-летия битвы под Москвой, первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин неожиданно вспомнили, что в Москве нет ни одного общенационального памятника защитникам города. Косыгин, только что побывавший в Польше и возлагавший цветы к варшавскому мемориалу, обещал поддержать идею.
И тут же возникли проблемы с локацией.
Удивительно, но место в Александровском саду тогда, в середине 60-х, оставалось довольно запущенным. Даже Кремлевская стена, и та требовала реставрации. Однако самое главное, что на этом месте стоял памятник 300-летию Дома Романовых, переделанный в первый год советской власти в обелиск титанам революции. Список «титанов» составил Ленин. Все, что было связано с Лениным, было в те годы неприкосновенным.
И тут Егорычев решился на страшную крамолу. Он распорядился переместить революционно-монархический монумент чуть в сторону, к гроту, где он стоит до сих пор. Дескать, никто не заметит. Если бы заметили или кто-то «настучал» – не сносить ему головы. Но не заметили, пронесло.
Так впервые День Победы «подвинул» праздник Октябрьской годовщины.
Еще один удивительный факт – неожиданно прохладно идею мемориала воспринял сам Брежнев, долго не согласовывал проект. Позже Егорычев писал в мемуарах, что, может, взревновал, может, уже тогда о Малой Земле думал. Но ирония бывшего московского секретаря понятна – с Брежневым они не сработались.
Но так или иначе, тогда, осенью 1966 года, Егорычеву и Косыгину пришлось пойти на маленькую хитрость.
К 6 ноября 1966 года, когда должно было пройти очередное заседание в связи с годовщиной революции, главный московский архитектор Фомин подготовил полный макет памятника. Он был выставлен в комнате отдыха в Кремлевском Дворце съездов. Члены Политбюро один за другим рассматривали проект и восхищались: «Какая отличная идея!». Даже Суслов, и тот восхитился. Тут уж Леониду Ильичу деваться было некуда. Все высказались «за».
- За что на самом деле сожгли Джордано Бруно
- Культура освобождается от черви
- Как Сережа ждал Россию
Когда все решения были приняты, предстояло выполнить еще одну важнейшую задачу – найти останки безымянного воина, которому суждено будет стать главной святыней мемориала. Захоронение нашли крюковские школьники еще в 1963 году. Ребята гуляли с собакой, и пес почуял на пустыре что-то непонятное. Это был окоп с двенадцатью павшими воинами.
Тут перед партийными руководителями встал щекотливый и болезненный вопрос выбора. Солдат должен был быть на самом деле неизвестным защитником, геройски погибшим за Москву. Нашли останки в хорошо сохранившейся шинели без знаков отличия.
Было очевидно, что это советский солдат, рядовой, который геройски погиб, обороняя столицу. Документов при нем в могиле найдено не было – прах воина по-настоящему безымянный.
…Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей Тверской (тогда – улице Горького) стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета.
Единственное, что было известно о павшем воине – что он служил в Шестнадцатой армии, которой командовал Рокоссовский. Маршал и встретил у Александровского сада гроб со своим рядовым.
Вечный огонь был зажжен спустя несколько месяцев – на День Победы 1967 года. Факел от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде (первый подобный памятник в СССР) по эстафете доставили в Москву. Как свидетельствуют современники, по всему шоссе стоял живой и никем не организованный – что существенно для советских реалий – коридор. Люди хотели еще раз почтить память погибших.
8 мая кортеж прибыл в Москву. Ленинградское шоссе и Тверская вновь были заполнены народом. На Манежной площади факел принял легендарный летчик Алексей Маресьев. Зажигал огонь Леонид Ильич Брежнев. Говорят, в самый ответственный момент генеральный секретарь немного опоздал поднести факел. Раздался характерный газовый хлопок. Брежнев чуть отшатнулся. Этот момент был вырезан из телевизионного репортажа, поэтому на картинке мы видим, как генсек подносит факел – и потом сразу огонь уже горит.
Быть может, так и лучше. Горит Вечный огонь, который символизирует нашу национальную память. Достояние, которое никто у нас не отнимет.