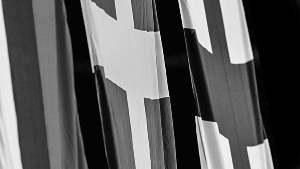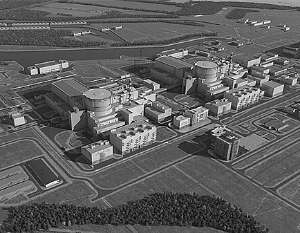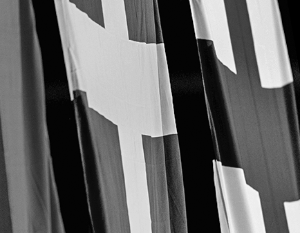«Будем как дети». Этот лозунг в свое время подняло на щит поколение «детей цветов», они же хиппи. Таким образом они отрицали взрослый продуманный мир в пользу чистой непосредственности естественного бытия. Под этим лозунгом они жили в коммунах, отрывались на концертах, предавались свободной любви, шмалили косяки и лизали марки, «расширяя сознание». Они говорили, дескать, будем открыты, искренни, наивны, добры, бодры и веселы, честны, будем играть и веселиться, плясать и петь. В итоге взрослый мир их съел, вчерашние хиппари вполне в него вписались, став со временем примерными семьянинами и успешными людьми. Не все, конечно, но большей частью.
Но желание быть как дети никуда не делось. Разве что оно больше не несет в себе публичной декларации. В нашем мире взрослые все больше становятся похожи на больших детей. На бородатых, седых и лысых детей. Нынешние «как дети» громко разговаривают, громко смеются, выставляют все свое напоказ и постоянно что-то демонстрируют. Они не хотят в «таежный союз», они хотят кружевные трусики и в Европу. Они «здесь власть», хотя не знают ни законов, ни принципов общественного устройства. Они знают обо всем из постов в соцсетях и, в лучшем случае, могут что-то посмотреть в «Википедии». Они не умеют ничего и, главное, не хотят уметь. Потому что они – «умные».
И плевать, что большинство из них не отличат юрисдикцию от юриспруденции и путают Саратов с Самарой. Зато они знают слово «нарратив» и пользуются гештальт-терапией. Это у них показатель интеллекта, отличающий их от тупого быдла. А у кого интеллект и очки, плюс шарфик, кеды на босу ногу и свитер с оленями – тому нельзя работать руками, потому что тогда ты не сможешь быть «как дети». Вы где-нибудь видели, чтобы детей пускали в шахту, за рычаги трактора или к токарному станку? Ах да, видели в хронике. Так это ж не дети, это маленькие взрослые, а мы, наоборот, – большие дети, нам нельзя в шахту, у нас лапки. Зато всегда готовы объяснить шахтеру, как он должен добывать уголь и что ему делать после работы. И уверены, что из забоя шахтер не идет в театр или на выставку из-за убогости мышления, а лесоруб после того, как вывалит делянку, не идет в фитнес-зал исключительно из-за мужицкой лени.
Может показаться, что это старческое брюзжание. Но это явление, увы, поразило не только наше общество, но и весь «цивилизованный мир». У него есть даже научное название – «психологическая неотения», то есть сохранение детского поведения во взрослом возрасте. И явление это получает все более широкое распространение. Этот медицинский термин ввел британский психолог-эволюционист Брюс Чарльтон, редактор журнала Medical Hypotheses. Он считает, что современным людям для достижения психологической зрелости требуется намного больше времени, чем прежним поколениям. И процесс этот обусловлен особенностями современного мира.
Одним из факторов такой психологической отсталости является нынешнее образование. В нормальных обстоятельствах прошлого формальное образование заканчивалось у кого-то в средней школе в 17 лет, у кого-то в вузе чуть за 20. Дальше шло уже «дообразование», то есть совершенствование уже приобретенных навыков в процессе полноценного, «взрослого» функционирования человека. Формальное образование требует от человека именно детской восприимчивости, гибкости разума. Всем известно, что «старую собаку новым трюкам не научишь», и пробелы, полученные в детстве, взрослые люди заполняют с большим трудом. Нынешнее стремительное развитие наук и технологий требует посвящать образованию гораздо большее время, а частые перемены заставляют еще и переучиваться. В итоге человек может учиться десятилетиями, так и не вступая в реальную жизнь. Детская гибкость, поведение и навыки могут быть полезны для существования в нынешнем нестабильном мире, где людям приходится часто менять работу, приобретать новые навыки, переезжать с места на место. Но расплачиваться за это приходится ростом индивидуализма, маниакальным стремлением к переменам и психологическим инфантилизмом.
Когда-то людям приходилось взрослеть вынужденно и очень рано. Во времена Пушкина человек в 17 лет был полноценным членом общества. Во времена Ивана Грозного в 14 лет человек уже рубился с врагами в общем ряду и на пашне или сенокосе получал равноценную со взрослыми делянку. Да чего далеко ходить? Еще в 1980-х про отслужившего срочную парня говорили «мужик», и если он до 25 не женился, смотрели на него с подозрением. Незамужняя девушка в 25 была «старой девой». А сейчас в официальных сводках часто пишут «подросток 19 лет», «35-летний юноша» или «молодой человек 40 лет». Про 20-летнего раздолбая, натворившего дел, мама в суде стенает – он же еще ребенок!
Такие вехи зрелости, как окончание вуза, женитьба и рождение первого ребенка, раньше располагались в определенных возрастных отрезках, теперь же они могут откладываться на десятилетия. Таким образом, многие из современных людей вообще никогда не становятся взрослыми. Они затягивают обучение и подготовку к взрослой жизни до бесконечности, становясь «незавершенными личностями».
Но сами-то себя они незавершенными не считают! Вот в чем проблема. Чарльтон предполагает, что способность сохранять юношеские качества, которые сейчас часто воспринимаются как глупость, может когда-нибудь быть признана ценной чертой. Вопрос – кем она таковой будет признана? Такими же «большими детьми»?
На деле желание «быть как дети» означает другое. Быть как дети – это осознанный инфантилизм. Эти «как дети» ведь не просто хотят безответственности, как дети, вручившие ответственность взрослым. Они еще хотят, чтоб эту безответственность им обеспечили и чтобы взрослые отвечали за последствия их безответственности. Это как феминистки, которые на деле хотят не равенства полов, а дополнительных преференций за свой пол.
У «больших детей» всегда восхищенный взгляд и непоколебимая уверенность в том, что они все знают. Им всегда известен ответ, но он обычно не учитывает ничего, кроме прямого вектора их мысли. Никаких «но». Большие дети чисто по-детски жестоки и категоричны. Они чисто по-детски могут идти до конца и ничего не боятся, потому что не понимают слова «последствия». У них нет опыта ответственности за свои поступки. Они могут сжечь заживо других. Смерть для них – повод продемонстрировать. Они пройдут по городу с портретом убиенного кумира, но не потащатся на кладбище к его могиле, потому что демонстрировать надо там, где видно, а там, на кладбище, никто не видит, а значит, и демонстрировать некому.
Я не люблю унылых, продуманных «с-детства-стариков». Но взрослых детей я боюсь. Когда я вижу их открытые, светлые лица, слышу их требовательные голоса, я подсознательно готовлюсь к войне. Потому что именно этим все заканчивается. За примерами далеко ходить не надо.
В своей книге «Апология чукчей» Эдуард Лимонов про таких писал: «У части прохожих чудаковатый вид. Раньше такие по сумасшедшим домам сидели. Сейчас себе невозмутимо шагают по улицам. Одежда стала неприлично яркой, от яркой одежды многие превратились в детей, думают, что они дети. Они принимают себя за детей, соответствующе одеты и все время хотят отдыхать». Он же и причину явления назвал. «Мужественность мужикам возвращают обыкновенно войны. Тот, кто хоронил убитого товарища, приобретает строгую маску лица. Испытания нужны народам, чтобы они не обабились и не впали в детство».
Сейчас у нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает ту самую «строгую маску лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами. Честно, без всякого злорадства, скажу, что, когда два этих мира войдут в соприкосновение, «миру детей» я не позавидую.