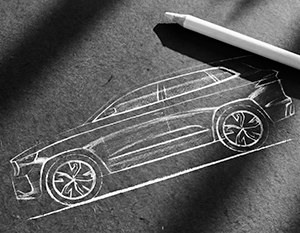Новый раунд дипломатических недоразумений в отношениях с Азербайджаном вызывает в России весьма эмоциональную реакцию. Сейчас поводом стали заявления лидера этой страны по поводу украинской проблемы. Это – непростой период в наших отношениях. Но он позволяет задуматься о том, нуждается ли политика России на пространстве бывшего СССР в определенной переналадке.
Эти трудности, как и дискуссии с коллегами в Центральной Азии по поводу миграционного вопроса, происходят на фоне колоссальных выгод соседей от взаимной торговли после того, как Запад начал против нас экономическую войну. Во всех без исключения случаях торговый оборот и российские инвестиции растут, как и масштабы нашей экономической связанности.
Задуматься хочется. Тем более что перед глазами пример Грузии, раньше всех прошедшей полный цикл отношений с Россией: от яростного конфликта до вполне мирного и выгодного соседства. Не случайно некоторые наблюдатели в России приводят эту страну в качестве примера того, как вовремя примененная сила не разрушила отношения с соседом окончательно, а именно привела их к более здоровому состоянию. Пример действительно замечательный.
Но как и любой исторический опыт, он не может рассматриваться в отрыве от конкретных обстоятельств. И не факт, что аналогичный рецепт окажется настолько же эффективным в другом случае. Хотя, как это не печально, международная политика учит, что сила – это и в правду лучший педагог. Но для того, чтобы ее применять, нужно внятное целеполагание. Как это было с режимом Саакашвили, перешедшим все границы не только на риторическом, но и на военном уровне. Об этом мы иногда сейчас забываем.
А вот с определением нашей главной задачи ситуация непростая. Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь? Ответ на этот вопрос понятен, когда речь идет о двух самых важных географических направлениях – китайском и западном. В обоих этих случаях цель очевидна – это отсутствие прямой военно-политической угрозы. В случае с Китаем она достигается через сотрудничество, уже настолько успешное, что наши отношения стали примером стратегического партнерства. Причина – в доброй воле и рациональном поведении Москвы и Пекина, способных идти на компромисс даже по чувствительным для себя вопросам.
Когда речь идет о странах Запада, которые не готовы отказаться от своего эгоизма – это военно-политическое сдерживание, переходящее иногда в жесткое противостояние, как на украинских землях. Здесь причина тоже понятна – это неспособность самого Запада хоть как-то принимать во внимание интересы других государств. Но, повторим, цели России являются в обоих случаях идентичными – это наша стратегическая безопасность.
Все остальные географические направления для России – это чистая дипломатия, где достигается решение частных вопросов, экономическая выгода. Пусть и существенная, как в случае с арабскими монархиями Персидского залива. Или сочетание частных политических и экономических достижений. Как, например, в сотрудничестве со странами Африки. Однако все это – именно дипломатические интересы, не связанные напрямую с вопросом выживания России как государства. В отличие от отношений с Китаем и Западом, где на кону стоят действительно очень серьезные вещи.
Проще всего понять разницу на примере США, которым досталось самое простенькое географическое положение в мире – на острове, который только узенький перешеек соединяет с континентом, где «живут» очень слабые в военном отношении и не способные угрожать американцам государства. Вот для американцев вся мировая политика – это дипломатия, и ни одна проблема в мире не является фундаментальной для их выживания. Им совершенно все равно, что происходит в Европе или на Ближнем Востоке – угроза слишком далеко.
У России положение, мягко говоря, иное. Но и для нас список приоритетных направлений ограничен двумя. Страны-соседи России из числа бывших республик СССР к числу объективно приоритетных направлений, таким образом, могут относиться с большим трудом. И судя по скромным масштабам усилий, включая действительно замечательных наших дипломатов и других специалистов, эта объективная реальность находит отражение в практической российской политике. Достаточно сравнить количество студентов международных отношений, изучающих разные языки для будущей успешной карьеры.
Однако, когда в отношениях с неким соседом начинаются недоразумения, то к этому у нас относятся часто очень темпераментно. Возможно, потому что мы сами не до конца готовы сказать, какое поведение, например, Азербайджана, было бы для России идеальным. Нельзя до конца исключать, что и украинский вопрос зашел в свое время так далеко, потому что в России долго не могли определить критерии хороших с ней отношений. Хотя здесь, конечно, главная причина – это провал самой попытки строительства там государства, пришедшего через пару переворотов к гражданской войне и разрухе.
Во всех остальных случаях на пространстве бывшего СССР государственность – это состоявшийся факт. Даже Армения, которая сейчас переживает очень непростые времена, сама распоряжается, хотя и странненько, своим суверенитетом. Дружественный Таджикистан, на который многие в России смотрят несколько высокомерно – это состоявшееся государство с ответственной внешней политикой. Уже упомянутая Грузия вполне достойно восстановила за последние пару лет свой суверенитет, хотя ее и изрядно потрепало в прошлые десятилетия. Тот же Азербайджан суверенен настолько, что мы не можем даже теоретически связать боевитую риторику его лидера с тем, что кто-то извне руководит его действиями против России. Исключение – только малюсенькая Молдавия, которая и вправду стала уже только территориальным вопросом наших военно-технических отношений с Западом.
Принимая во внимание то, что, кроме Украины, все соседи России – это состоявшиеся государства, здесь можно начинать ответственную дискуссию по вопросам наших истинных целей на постсоветском пространстве. Тем более что не за горами приход к рычагам власти совсем нового поколения россиян: тех, кто родился и вырос уже после распада СССР. Политиков и предпринимателей нового поколения, для которых «общее прошлое» и «единая страна» представляют собой чисто исторические концепции, не имеющие никакого отношения к их реальной жизни и интересам.
- Посол России заявил об отсутствии враждебных шагов против Молдавии
- Азербайджан и Казахстан стали главными покупателями шоколада из России
- Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
Именно этим нашим соотечественникам придется лет через 20-30 принимать решения в тех случаях, когда какая-нибудь из соседних стран окажется, паче чаяния, жертвой внутренней дестабилизации или задумает поставить на своей земле военный объект потенциально враждебной России крупной державы. Для того, чтобы решения стали не только реакцией на текущую ситуацию, а частью некой стратегии, думать о ней нужно уже сейчас. Тем более что страны-соседи сами дают массу поводов и оснований.
Можно предположить, что в будущем для России должна существовать только одна по-настоящему «красная линия» в отношениях с ними: действия, которые наносят измеряемый ущерб нашим интересам в экономике или безопасности российской территории. К этому относится военно-техническое сотрудничество с иными державами, способное создать для России угрозы, не говоря уже о вступлении во враждебные союзы, а также действия, приносящие прямые потери российской экономике. Именно измеряемый ущерб – в появлении там объектов, способных создавать угрозы для России или принятии собственных, не под давлением санкций Запада, решений, ограничивающих нашу внешнеэкономическую деятельность.
Все остальное – издержки их внутреннего развития, и беспокоить они нас могут лишь настолько, насколько способны привести самих соседей к внутренним проблемам. Да и то на чисто гипотетическом уровне планирования миротворческих операций. Заниматься этими вопросами как своими – значит, втягиваться в споры, где Россия, хотя бы на риторическом уровне, всегда будет использоваться для решения собственных внутриполитических задач. «Кормить троллей» в число российских внешнеполитических задач точно не входит. Как мы это не делаем и сейчас.
Разумно воздерживаясь от ответов каждому соседу на языке, который он сам использует в силу особенностей культуры и воспитания.