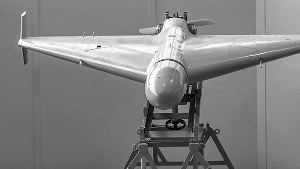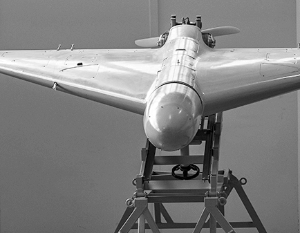У меня сентябрь стал месяцем тотальной Камчатки, поэтому мы не так часто с вами встречались, дорогие читатели «Взгляда». Сначала вышла книга «Камчатка-блюз», а потом мы с режиссером Александрой Франк отправились на съемки документального цикла по этой книге на всё ту же Камчатку.
Я был там последний раз в 1992 году и все, что я помню с 1965 года, все и написал в сценарии, и вообще – даже не собирался туда возвращаться. Тридцати лет проживания в таком суровом месте, как Камчатка, обычно хватает, чтобы не испытывать желания опять лететь девять часов, чтобы в чем-то убедиться. Всё и так у тебя в голове.
Но странности начались уже на стадии подготовки к съемкам. Местные наши скауты, молодежь, которая там родилась и выросла, не смогла найти многие места, важные для камчатцев нашего поколения. Например, областную типографию и издательский комплекс, где сидели все редакции местных газет – «Камчатский комсомолец», «Камчатская правда», плюс важная культурная институция – местный пресс-клуб, который посещали все приезжие суперстары. Не смогли найти старый пединститут. Или второй корпус моего морского института под названием «Дальрыбвтуз». Для них это просто какие-то не самые важные, не «культовые» институции. Появилось много других – им более понятных и полезных.
Ступив с трапа, я так и понял – это совсем другая Камчатка. Конечно, за спиной стоит «домашняя группа» – Корякский, Авача и Козельский вулканы, только все остальное – вообще другое.
Начиная со здания аэропорта – вы недавно видели кадры из него, когда было землетрясение 7,5 балла – по соцсетям расходились видосы, как болтаются на стенах мониторы, словно в шторм на судне. Это мега-дизайнерский аэропорт – какой-нибудь хваленый исландский Кефлавик по сравнению с ним какой-то колхоз. Тороидальный, вписанный в природу до степени землянки, и в центре в пруду стоит гигантское яйцо на пару этажей высоты. Вау.
Зачем такой аэропорт? А стало сразу понятно: дикое количество туристов. Я не шучу – именно дикое. Этот наплыв нас будет преследовать все наши съемки. Такого решительно не было никогда. В отели попасть невозможно – биток. Какие-то безумные зожники устраивают свои камлания прямо в коридорах отелей – свеженьких, вполне скандинавских зданий. прежде чем погрузиться на машины с гигантским клиренсом и свалить на природу – лучшее что здесь есть.
Да, здесь теперь как на Аляске и в Исландии – самые популярные машины с огромными колесами – кругом одни «круизеры» лево- и праворульные, с японским или американским плейтом под русские госномера. «Китайцев» тут практически нет. Зато культовой Mark II – полно, годов эдак 70–80-х.
И вообще, сегодня Петропавловск – это такое представление русских людей об imaginary Alaska: в архитектуре, укладе северной жизни, одежде. Дело только в том, что у наших получилось гораздо более крутая версия Анкориджа. От дорог до ресторанов.
И да – я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. В моем Петропавловске была одна гигантская улица, которая тянулась от жестяно-баночной фабрики (остановка ЖБФ) до «Десятого километра» (это тоже название остановки). По ходу движения улица эта меняла только название, но оставалась все той же, раздваиваясь в центре на два рукава – Ленинскую и Советскую.
Теперь город шагнул в сторону вулканов, в сторону Халактырки, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее.
Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города. И чистота. Буквально некуда бросить окурок: совесть не позволяет.
Из новой России – два огромных церковных комплекса. Как вы понимаете, в наше время такого и быть не могло. Равно, как и таксистов-узбеков, с трудом говорящих по-русски.
И каждый день, трясясь в местном внедорожнике, я сидел и думал – ну какого черта я написал в сценарии: «Перевал Вилючинский, выступление корякского ансамбля».
В наше время туда надо было ехать – все равно, что Берингу в камчатскую экспедицию – на военных машинах, по отвратительной дороге. Нынче туда строится шикарная дорога в сторону Мутновки, через этот самый перевал, который, оказывается, забит машинами туристических групп со всей страны. Я в Москве в воскресенье столько народу не вижу, сколько было там в понедельник.
Оказывается, дорога будет вести к крутейшему туристическому комплексу «Три вулкана», который строит очень крупный московский бизнес. То есть Камчатка конкретно взяла курс на то, чтобы быть туристическим магнитом для самых широких слоев русских туристов, а не только для наследников слетов КСП с брезентовыми рюкзачками. Все направлено на создание комфорта. Несмотря на цену.
И вот удивительно, стоило нашу старую лесную дорогу превратить в шоссе и расчистить территорию вдоль – оказалось, что все классические виды Швейцарии, Австрии и даже острова Скай в Шотландии – вот они, тут. Просто не отличить. И масштабы несравнимые.
Так зачем люди мечтали об Австрии и ее горах? Наверное, потому что им внушили, что там круче. Или потому, что там десятилетиями горный комфорт. Но вот теперь и у нас.
Прямо на перевале, совсем недалеко от нашей съемочной площадки – стоят шары глэмпинга (отвратное слово) с кафе, едой, интернетом. И очень улыбчивой молодежью в качестве персонала. Кофе – правда, ужасный, как на Камчатке везде, а интернет стоит 1 тыс. рублей с носа в час, но это какая-никакая цивилизация, которой достоин русский человек.
Но черт побери, вот эти три-четыре разные погоды в день – это тяжело. Я вспомнил это ощущение. Но тогда мы были молоды и рьяны, и как-то справлялись.
А туристы все прибывают и прибывают. Самые вежливые из Башкирии. Учтивые, тихие, улыбаются. Самые хамоватые – дамские группы из Ростова. Они считают, что им все отчего-то должны. Наши администраторы сдерживают южный напор, чтобы нам не свалили камеры на площадке с видом на скалы Три брата – еще одно место, до которого в наше время можно было добраться только на военной машине или на «Ниве». Потрясающий вид. Туристически-иконический. Еще дальше от Петропавловска – Мыс Маячный с натуральным маяком. За тридцать лет жизни тут ни разу не доехал до этого места.
Невероятные обрывы и вид до самой Калифорнии, в сторону которой и направлено дуло башни танка, встроенной в бетонное основание. Туристы висят на стволе гроздьями и крутят башню, дети забираются внутрь через люк. «Нетвойняшки» тут бы получили инфаркт. А нам кстати – норм. Мы так выросли – среди танков и ракет. И ничего.
- Стало известно о запуске круизной линии между Камчаткой, Сахалином и Приморьем
- Российские туристы нашли новые способы отдыха
- Эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм
И тут я слышу режиссера: «Парни, держите камеры». Так нас застало очередное землетрясение.
Есть два вида землетрясений на Камчатке нынче – те, которые попадают в соцсети, и те, которые между ними. Последние месяцы тут постоянно трясет – иногда через пять-десять минут. Такое впечатление, что вы пытаетесь перетащить тяжелый старый комод и его колотит при перемещении. Но куда едет Камчатка? Говорят, что в сторону Америки. Ничего политического, кстати. Чистая геофизика. Но, как говорят ученые, лучше много мелких землетрясений, чем возрастание напряженности, и потом – одно катастрофическое. Это жизнь. К тому же тут полно открытых пространств – а это самое безопасное место во время землетрясения.
Следующее землетрясение застает нас в последнюю смену – на Халактырском пляже. Многие говорят про него, как про пляж – на самом деле, это просто берег Авачинского залива километров шестьдесят в длину. Последний раз я такие пляжи видел в ЮАР. Где точно такая же холодная вода. Только наш – черного песка, как в Исландии. Тут в последнее время – целая серф-культура сложилась. И инфраструктура. И даже строится новая асфальтовая дорога почти до пляжа. Но чтобы сохранить дюны. Молодежь со всей страны приезжает оседлать волну. По-моему, это прекрасно.
Расстраивает и обескураживает, что этот уникальный пляж теперь тупо разграбляем под видом потребностей строительного комплекса – день и ночь они выгребают песок экскаваторами. Рядом с карьером стоит плакатик «Сохраним Халактырский пляж для наших детей». На него всем наплевать.
После десятилетий распада и угасания тут явно взят курс на материальный успех и жизненный комфорт.
Рынок в центре Петропавловска – один из лучших, что я видел в стране. Все укладывается в формулу «Камчатка – место таких цен на еду, что приходится брать кредит, чтобы купить жене второй «Ленд Крузер».
Парни из съемочной группы покупают в Москву родне рыбку-икорку. Я им говорю: «Парни, у меня на Ленинградском рынке у метро «Аэропорт» в Москве то же самое по тем же ценам». Все смеются – не верят.
Мы едем домой, пока не долбануло очередное землетрясение. Опять девять часов – это невыносимо.
Но фильм «Камчатский блюз» будет красивый – я вам это гарантирую.