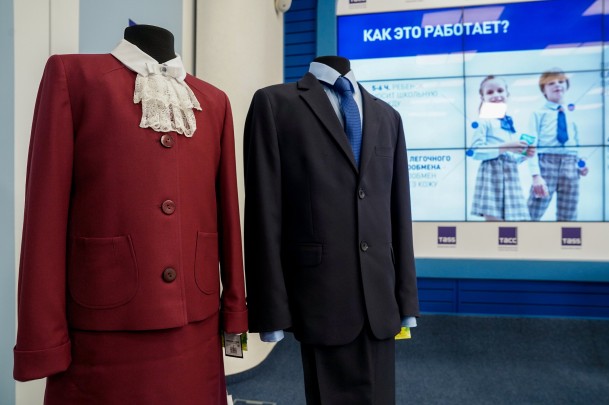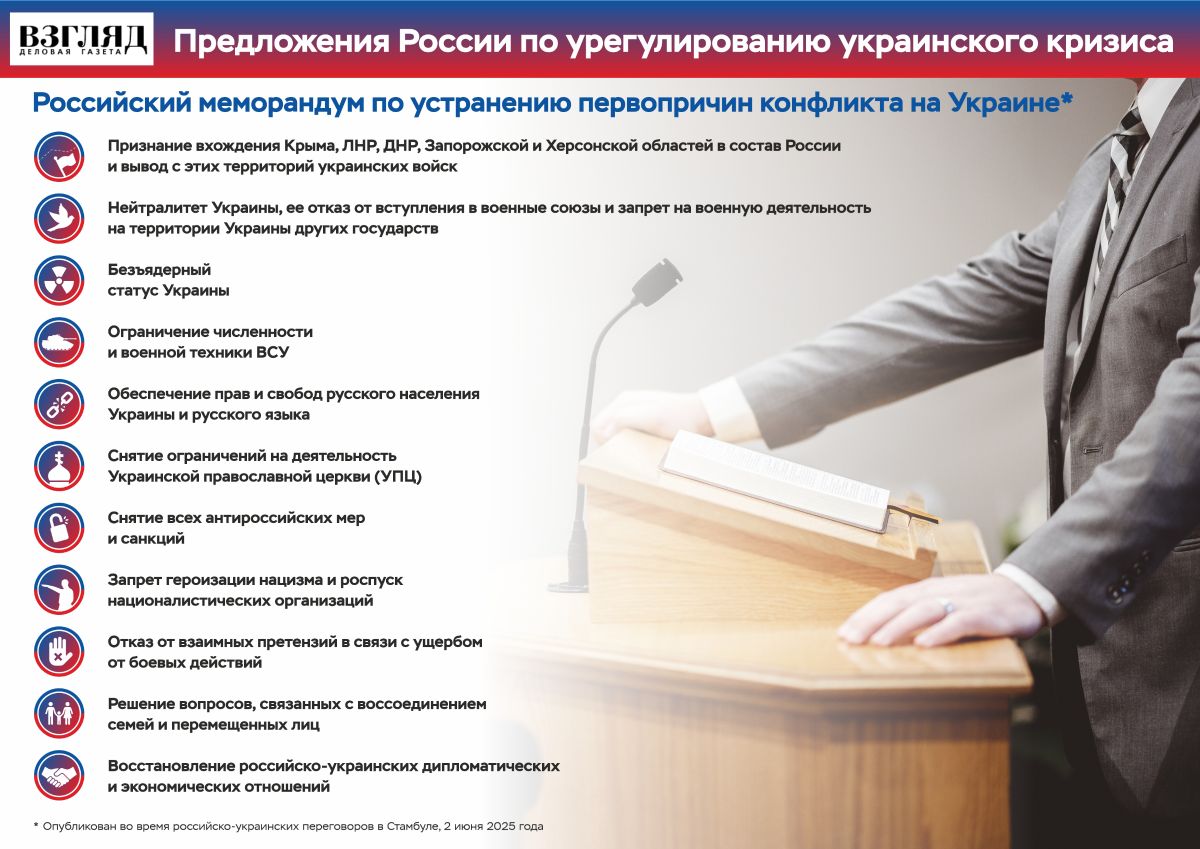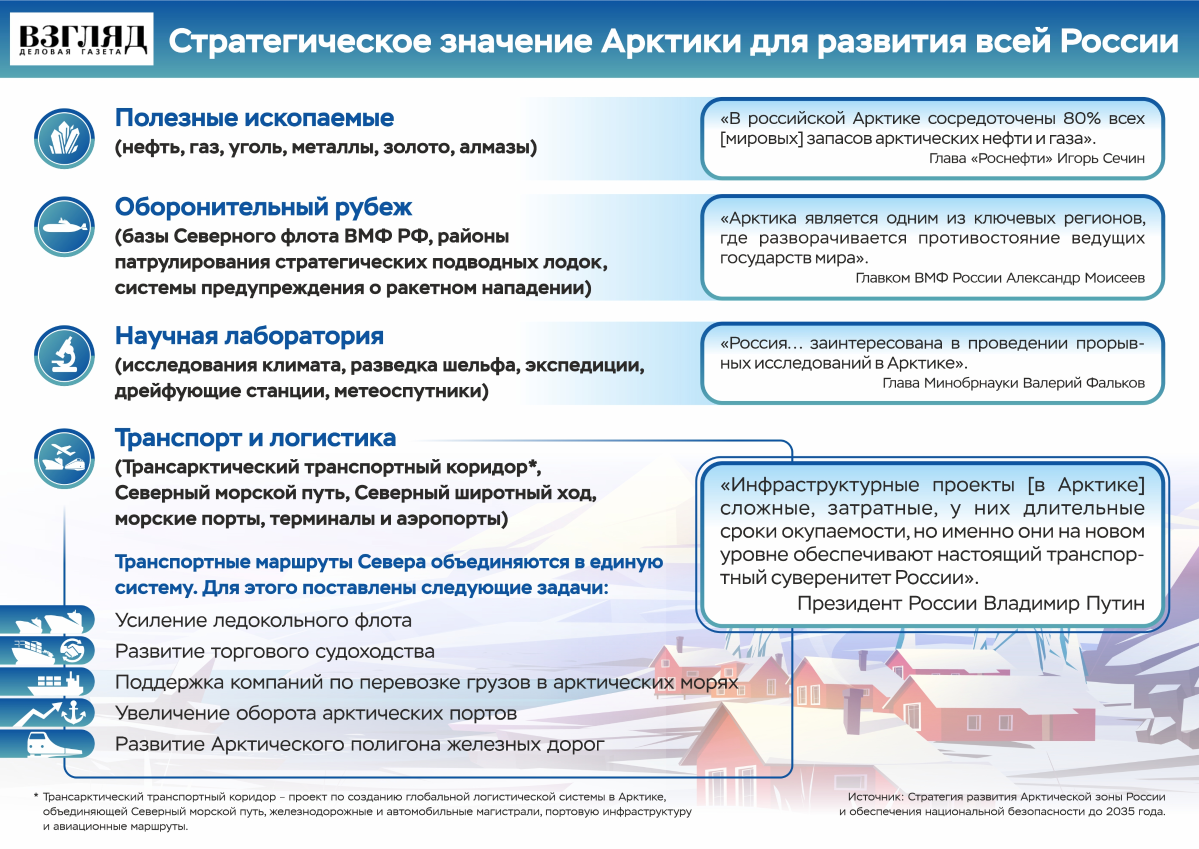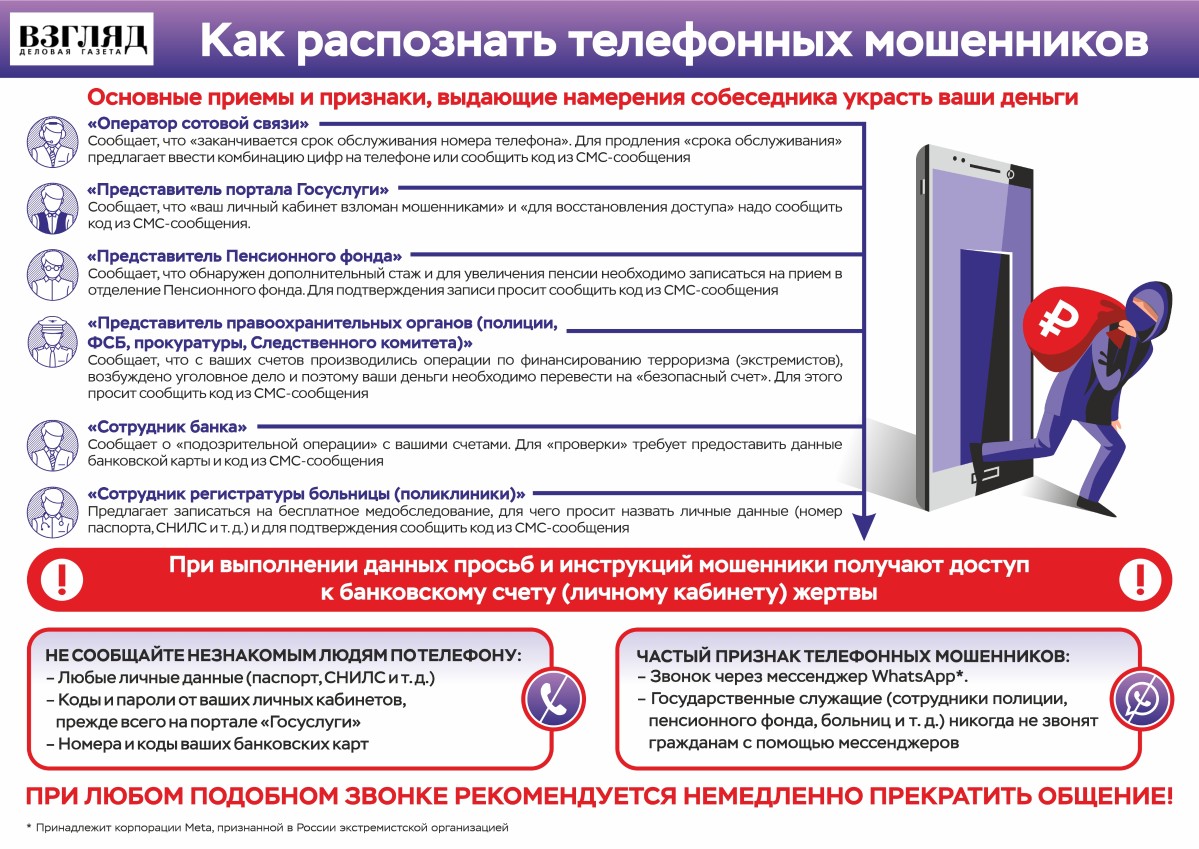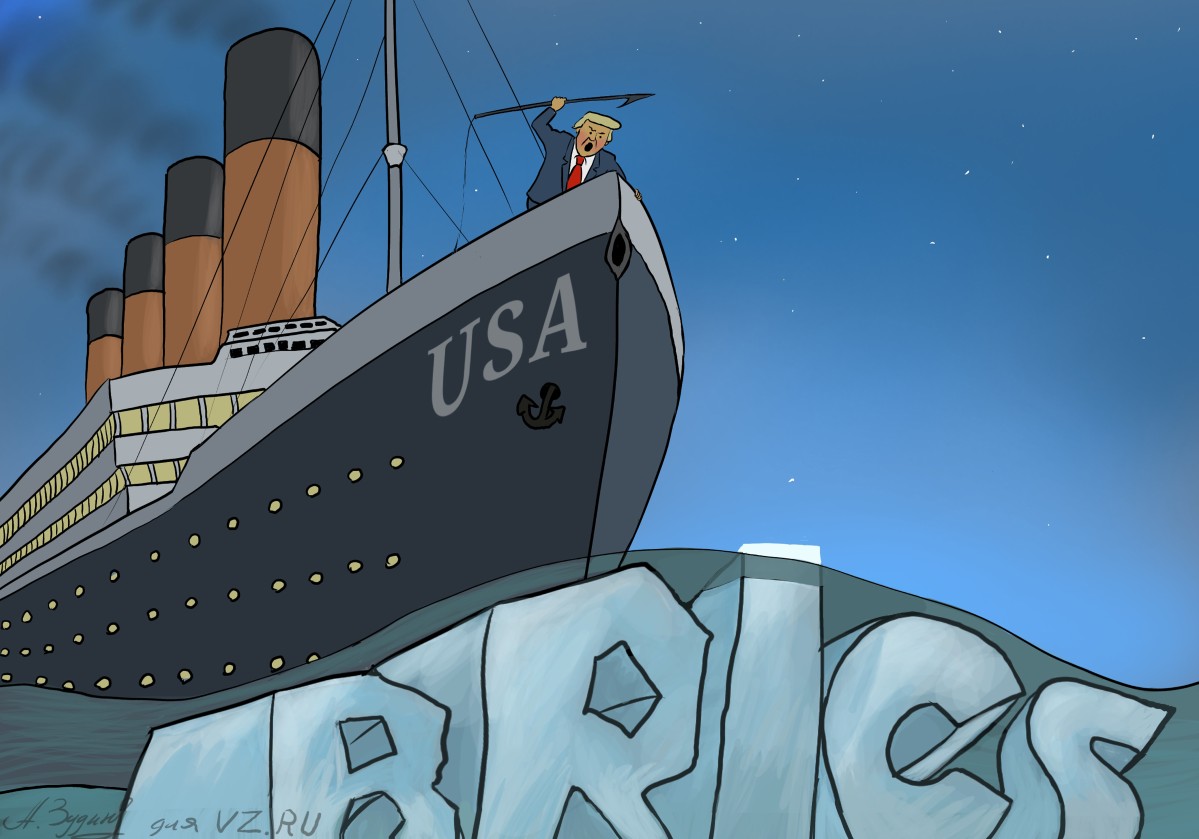Нападение японцев на Россию в начале года 1904 года разного рода революционный элемент с встретил большим воодушевлением. Внутренние противники российского государства сразу определились с позицией – военное поражение царизма может стать детонатором революции в России.
Японцы благодаря великолепно налаженной системе шпионажа быстро сориентировались в ситуации. В Токио решено было сделать ставку на поддержку революционеров. Особенно перспективным там видели помощь польским, кавказским и финским сепаратистам, которых японцы стали снабжать оружием. Соответствующие факты приводит, в частности, в своей книге «Падение Порт-Артура» известный российский историк Александр Широкорад.
Работой японской разведки в России руководил полковник Мотодзиро Акаси, с началом войны открывший свою резидентуру в Стокгольме. Оттуда он наладил связь с финскими националистами – а те, в свою очередь, ввели его в круг своих польских «коллег».
В марте 1904-го Акаси приехал в Краков (принадлежавший тогда Австрии), где встретился с Романом Дмовским – членом Тайного совета Лиги Народовой, провозгласившей своей целью «воссоздание свободной Польши». Дмовский получил от Акаси рекомендательные письма к руководителям японского генштаба и разведки – и в мае прибыл в Токио, где договорился о формах будущего сотрудничества. В июле же в Японию приехал и сам глава польских сепаратистов Юзеф Пилсудский, получивший в Токио 20 тыс. фунтов стерлингов (200 тыс. тогдашних рублей) – для проведения разведывательной работы, диверсий в тылу русской армии и распропагандирования русских солдат.
Другим агентом Акаси стал проживавший в Париже дворянин Георгий Деканозов (Деканозошвили) – один из лидеров грузинской партии социалистов-федералистов, революционер. Акаси еженедельно выплачивал Деканозову-старшему «на расходы и разъезды» 2,05 тыс. франков (750 рублей).
Агент охранного отделения департамента полиции российского МВД Мануйлов, следивший за границей за Акаси, доносил начальству:
«Японское правительство при помощи своего агента Акаши дало на приобретение 14,5 тыс. ружей различным революционным группам 15,3 тыс. фунтов стерлингов, то есть 382,5 тыс. франков. Кроме того, им выдано 4 тыс. фунтов (100 тыс. франков) социалистам-революционерам и на приобретение яхты с содержанием экипажа 4 тыс. фунтов (100 тыс. франков)».
В середине июля 1905 года в Швейцарии усилиями Деканозова на японские деньги было закуплено около 25 тыс. старых винтовок и свыше 4 млн патронов. Треть этих винтовок и более 1 млн патронов предназначались для отправки в Россию через Черное море (для отправки на Кавказ), а остальные – через Балтийское (в Финляндию). Для их переправки Деканозов нанял несколько судов. Часть этого груза была успешно доставлена адресатам, часть перехвачена российскими властями.
Наиболее неудачливым оказался пароход «Джон Графтон», севший на мель у берегов Финляндии. Команда «Графтона», отобрав лодку у местных жителей, сбежала на ней в Швецию. Треть оружия с парохода была растаскана местными жителями, а остальное конфисковали прибывшие жандармы.
Всего в ходе войны японское правительство передало различным революционным организациям в России не менее 1 млн иен (по современному курсу около 5 млрд иен или 35 млн долларов).
Что примечательно, основные траты оказались произведены летом 1905 года, когда основные события войны были уже позади. Это отнюдь не случайно. К лету японцы добились двух крупных побед: под Мукденом – на суше и при Цусиме – на море. Однако судьба войны далеко еще не была решена: существовал шанс отыграться, по крайней мере на суше. Новый командующий русской армией Николай Линевич деятельно готовился к японскому наступлению, активно укреплялся и требовал от столицы новых резервов.
Но битва не состоялась – японская армия и так была обескровлена за время войны, а пиррова победа под Мукденом нанес ей «контрольный» удар. И если русские благодаря бесперебойно работающей Китайско-Восточной железнодорожной дороге быстро восстановили и даже нарастили численность своих войск, то у японцев резервов не имелось. Не зря историк Окамото Сюмпэй охарактеризовал Мукден как «крайне неуверенную победу».
В японском командовании задумались о выходе из войны: начштаба Маньчжурской армии генерал-лейтенант Кодама Гэнтаро отправился в Токио и, выступая в ставке микадо, призвал от имени своего начальника маршала Ояма искать возможности к миру. Япония была обескровлена во всех смыслах: подходила к концу как живая сила, так и финансы – кредиты, которыми перед началом войны снабдили Токио Великобритания и США, оказались небеспредельными.
Если бы конфликт перешел в войну на истощение, никаких шансов у Японии в ней не было.
Однако правительство Николая II предпочло другой вариант и завязало мирные переговоры с японцами. Это решение было продиктовано вспыхнувшей в государстве смутой – в 1905 году Российская империя оказалась охвачена революцией. В июне произошло восстание экипажа броненосца «Потемкин», бунт военных моряков в Либаве, вооруженное восстание в польской Лодзи, а потом беспорядки на Кавказе. Вся страна была охвачена революционным брожением – и на этом фоне пришлось сосредоточиться на наведении порядка у себя дома.
Кроме того, японцы допускали революционных агитаторов в лагеря для военнопленных. Об этом, в частности, свидетельствует морской офицер Владимир Семенов, известный в ту пору прозаик. Капитан I ранга Семенов участвовал сначала в обороне Порт-Артура, а потом в Цусимском сражении. Семенов содержался в лагере в городе Сасебо – и поражался тому, насколько свободно там действуют разного рода подстрекатели.
«И литература, и сами проповедники были для японцев желанными гостями. Кое-какие из этих книг и брошюр мне пришлось держать в руках: «Организация масс при народных восстаниях», «Бой на улицах», «Типы баррикад против наступления пехоты и кавалерии», «Как действовать, если тираны имеют в своем распоряжении артиллерию» и т.д.», – свидетельствует Семенов. По его словам, дошло до того, что французский посланник в Токио (а Франция тогда была союзницей России) обратился к японцам с претензией: допустимо ли, этично разжигать смуту в другом государстве? «Ответ, им полученный (напечатанный в японских газетах), был неподражаем по своей откровенности, чтобы не сказать – цинизму: «Наше правило – вреди врагу, чем можешь». Так выразился военный министр Японии…», – констатирует Семенов.
По итогам работы многочисленных агитаторов бывшие пленные возвращались из Японии на родину, уже имея намерение участвовать в революции и сражаться за «свободу трудового народа». Они начали готовить восстания на перевозивших их пароходах.
«С того утра бак превратился в самую веселую часть корабля. Здесь выступали то музыканты, то хор певчих, исполняя революционные песни. В то же время на палубах и в трюмах происходили митинги и выносились по отношению к начальству резкие резолюции. Потом бывшие пленные организовали исполнительный комитет, который постепенно начал забирать власть в свои руки», – рассказывает Новиков-Прибой о ситуации, сложившейся на пароходе «Воронеж». Капитану «Воронежа» стало известно, что на пароходе приготовлено красное знамя, перед которым матросы и солдаты дали клятву верности революции. Он умышленно повел судно вблизи берега. Офицерам было сообщено, что если вспыхнет восстание, то «Воронеж» выбросится на скалы.
До бывших пленных дошли слухи о беспорядках, произошедших во Владивостоке 30-31 октября 1905 года – восставшие, сумевшие распропагандировать городской гарнизон, временно смогли захватить почти весь город. Теперь экс-пленные начали поскорее рваться во Владивосток – на помощь «братьям, сражающимся с тиранами». Правда, когда пароходы с бывшими пленными начали швартоваться во Владивостоке, беспорядки уже подавили; по словам Семенова, восставшие устроили «пьяный разгул» – поэтому части, оставшиеся верными присяге, легко разогнали бунтовщиков.
И хотя в итоге волнения среди вернувшихся с войны удалось подавить, нет сомнений, что обработанные революционерами с помощью японской разведки ветераны сыграли свою роль в разжигании смуты в Российской империи. Как и в революцию 1905-1907 годов, так и во в время событий 1917-го.
 Алексей Чеснаков
Аляска как первый шаг
Алексей Чеснаков
Аляска как первый шаг