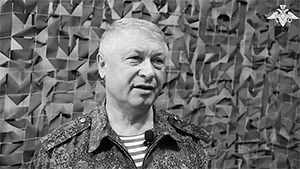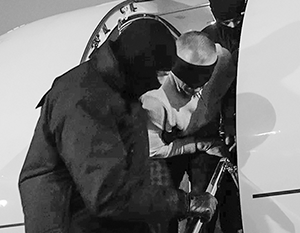Мы никоим образом не можем согласиться с Владимиром Ильичом Лениным, который в свое время обозвал русскую интеллигенцию нехорошим словом. Точно так же неправ и его современный идейный антагонист, протоиерей Андрей Ткачев, недавно назвавший образованных людей источником многих бед человечества.
Очевидно, что в течение последних трех столетий русский интеллектуальный класс приносил стране и пользу, и славу. Однако и обычай ругать интеллигентов и интеллигентщину тоже возник не на пустом месте. В частности, этот социальный слой уже дважды в российской истории попадал в ловушку двоемыслия, из которой каждый раз выбирался с большими потерями как для самого себя, так и для страны.
В последние десятилетия существования Российской империи многие образованные люди в стране приучились жить двойной жизнью. С одной стороны, они вели себя как лояльные граждане государства и занимались полезными делами: учили и лечили народ, двигали науку, писали замечательные книги. С другой стороны, те же самые люди грезили о перемене строя, сочувствовали самым отъявленным радикалам, террористам, а то и внешнему неприятелю, и отвергали Церковь и связанную с ней традицию. Человека, искренне преданного государству, эта среда, лишь для вида соблюдавшая приличия, отторгала.
Чем дело кончилось, мы знаем. Монархию свалили во многом благодаря силам, на которые она рассчитывала опереться, ведь это же вполне естественно, когда власть опирается на тех, кому дано больше ума, таланта и знаний. А в марте 1917 года радовались, ходили с красными бантами и транспарантами благополучные дамочки и господинчики, в том числе и будущие злобные контрреволюционеры, наподобие Мережковского и Гиппиус.
Снеся власть, интеллигенция взорвала себя изнутри. В ходе последующих событий часть ее оказалась в эмиграции вместе с бывшими хозяевами жизни, другая часть погибла во время междоусобиц и репрессий, остальные же, «попутчики» советской власти, вместе с выходцами из низов, взлетавшими на социальных лифтах, вошли в состав нового образованного класса – советской интеллигенции. Этот класс объединяла убежденность если не в правоте большевиков, то по крайней мере в исторической неизбежности крушения старой России и необходимости строительства на ее обломках новой, более справедливой и осмысленной жизни.
Однако и эта, вторая, интеллигенция не избежала соблазна двоемыслия. На мой взгляд, перелом тут наступил, когда Никита Хрущев провозгласил построение коммунизма к 1980 году. Неверие в конечную цель усугублялось явной нереальностью срока ее достижения. В результате образованные люди, на которых государство полагалось и в пропаганде, и в культуре, и в разработке конкретных путей движения в будущее, были вынуждены публично говорить одно, а приватно, на пресловутых кухнях, совершенно другое. Многие точно так же сочувствовали диссидентам и эмигрантским идеологам, как их предшественники сочувствовали бомбистам.
Возникла парадоксальная ситуация: чем выше находился человек в тогдашней иерархии, чем ближе он был к «элите», тем больше его внешнее поведение расходилось с его внутренней позицией. В результате актеры, игравшие доярок и трактористов, презирали простой народ и молились на заграничные шмотки, комсомольские лидеры, боровшиеся с крамолой в молодежной среде, мечтали стать бизнесменами, а «говорящие головы», разоблачавшие в телевизоре израильскую военщину, были в нее тайно влюблены.
Стремительный распад СССР был понят интеллектуальным классом как собственный триумф, о чем мечтательно вспоминает, например, философ Борис Межуев. Но за этот краткий триумф, как и после 1917 года, пришлось заплатить – развалом науки и образования, дебилизацией телевидения и книжного рынка, нищетой, в которую скатывались профессора, писатели, а порой и известные актеры.
Сегодня слово «интеллигенция» мало кто решается произнести всерьез и в положительном смысле. Этот термин умер. Однако интеллектуальный класс в России сохранился, а сегодняшняя его судьба интересна и противоречива.
После февраля 2022 года в образованном слое возник раскол, сопоставимый с послереволюционным. Недаром идейные релоканты сравнивали себя с эмигрантами первой волны. Они тоже рассчитывали, что отъехали ненадолго, потому что не может же эта власть устоять, когда «все цивилизованные страны» против нее. Но она устояла, поэтому в этой среде уже появились своего рода «сменовеховцы», которых со временем станет больше.
С другой стороны, у нас возникла активная патриотическая страта; феномен Z-культуры часто сравнивали с Пролеткультом. Эта культура, охватывающая не только литературу, музыку, театр, но и философию, социологию, политологию, формируется в интенсивном взаимодействии с военными, волонтерами, гуманитарщиками и даже, если вспомнить опыт Алексея Чадаева, с производителями беспилотников. В этой среде популярна концепция «кшатрия» – человека воинской касты, который должен прийти в интеллектуальную сферу и руководить ею, не доверяя это дело мягкотелым «брахманам».
Однако большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры. Их мнение недавно выразил писатель Евгений Водолазкин, заявивший, что сближение культуры и политики не полезно, и предрекший, что патриотические социальные лифты в культуре на самом деле едут не вверх, а вниз. Фактически это угроза задушить патриотов негласным бойкотом.
- «Интервидение» возвращает шоу-бизнесу человечность
- Нужно вернуться к русской жизни
- Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой
И я знаю, что это не пустая угроза. Слышал о таком и от музыкантов, и от людей театра. Что касается литературы, то мне достаточно моего собственного примера: после начала СВО передо мной закрылись журналы, в которых меня прежде регулярно публиковали, и площадки, на которых я прежде регулярно выступал.
При этом сама «нейтральная масса» меняется. Кто-то смирился с происходящим, искренне принял его как свою судьбу, общую с судьбой страны. Однако многие, наученные горьким опытом ряда иноагентов, решили, что лучше не устраивать неловких «антивоенных» демаршей, оставить свои убеждения для кухонных разговоров и подзамочных записей в блогах, а публично можно иногда и подсюсюкнуть патриотам – кушать-то что-то надо. Тем более что некоторые наши культурные чиновники создают для таких людей благоприятную среду, действуя по принципу: не признан иноагентом – значит, наш человек. В самом деле, не делает ведь человек ничего плохого, просто не хочет быть в рядах назойливых «Z-патриотов».
Но позвольте, я же знаю взгляды своих коллег, как и они знают мои взгляды. Я, например, вижу, как противники СВО ездят с фестиваля на фестиваль с концертами военных стихов или сидят в жюри крупной патриотической премии.
Так возникает опасность нового, уже третьего по счету, попадания нашего интеллектуального класса в ловушку двоемыслия. И вновь люди, которые научились симулировать лояльность и не морщиться от патриотических мантр, будут вытеснять людей, искренне болеющих душой за Отечество.
Сегодня государство наконец-то поворачивается лицом к интеллектуальному классу и готово вкладывать в него значительные ресурсы. Это и понятно: наше будущее добывается не только оружием, но и умом, и талантом. Нужно сделать так, чтобы эти ресурсы не шли на откорм тех, кто будет нам мило улыбаться, говорить правильные слова, а в очередной ответственный момент снова махнет хвостом и уплывет на сторону неприятеля. Поэтому и в культуре, и в гуманитарных науках открытый разговор о «политике», а вернее, о судьбе нашей Родины, рано прекращать, заменяя его картонным фасадом «патриотизма по умолчанию». Только в таком разговоре выявляется настоящая искренность и личностная цельность, которая нужна нам сегодня.