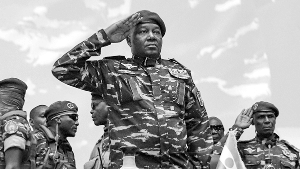В сентябре 1830 года Пушкин приехал по семейным делам в имение Большое Болдино – это в нынешней Нижегородской области. Приехал главным образом в связи с хлопотами, связанными с женитьбой. О помолвке с Гончаровой официально было объявлено еще 6 мая, но свадьба все время откладывалась – у невесты не было приданого, да и жених не отличался сколько-нибудь серьезным доходом, что крайне нервировало мать Гончаровой. Вроде бы свадьбу договорились сыграть в августе. Но тут умирает дядя Пушкина, известный литератор Василий Львович Пушкин. Ввиду траура свадьба откладывается еще на три недели. Раздосадованный Александр Сергеевич отправляется в Болдино, чтобы принять во владение деревню Кистенёво, которую выделил ему по случаю женитьбы отец. Перед отъездом он в очередной раз ссорится с будущей тещей и пишет ей язвительное письмо, в котором объявляет, что Наталья Николаевна «совершенно свободна»…
Одним словом, можно понять настроение, с которым поэт оказался в своей нечаянной «ссылке», думая за месяц управиться с делами (вступить во владение и тут же заложить Кистеневку). Но там его ждала еще одна «прекрасная» новость: ввиду прокатившейся по России эпидемии холеры на дорогах ввели карантин. Три месяца заточения! Без книг, без развлечений, но, слава Богу – и без семейных событий и дрязг. Делать нечего – приходится писать.
Литературный итог этого заточения поразителен. Более 30 лирических стихотворений («Бесы», «Элегия», «Моя родословная»), закончен «Онегин», написаны «Медный всадник» и «История Пугачева», а также «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Каменный гость»), «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Метель», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка»); «Домик в Коломне», «Пиковая дама», «Анджело», наконец, сказки: «О попе и работнике его Балде», «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и семи богатырях».
Подсчитано, что всего в Болдине Пушкин написал 68 произведений. Но дело не в количестве и даже не только в качестве (фантастическом!). Такого еще в мировой истории не бывало: «В течение трех месяцев возникает универсум, создается целая великая литература во всех основных жанрах, которой иной культуре хватило бы на столетие, а то и больше» (В. Непомнящий). Или: что такое Болдинская осень «как не попытка написать вообще всё, чтоб ничего не осталось?» (А. Битов).
Именно так. Болдино – вершина не только пушкинского творчества, но и всей русской литературы, если не сказать – русской истории. Ведь «история народа принадлежит поэту» (Пушкин). Поэт сам – воплощение народа и его истории. Где же еще искать разгадки смысла истории народа, если не в его Поэте? Если не в самый момент пика его творческого гения?
Во всяком случае, пищу для размышлений Пушкин и его Болдинская осень дают немалую. 1830-й – центральный год жизни поэта, год высшего раскрытия его творческих дарований. Ему 31.
Замечательно, что в январе этого года он получил письмо от могущественного первоиерарха Русской церкви, митрополита московского Филарета, «отца русского богословия» (В.Н. Лосский) – со стихотворным (!) ответом на свои стихи двухлетней давности: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?». Неожиданно письмо оказывается вовсе не грозным окриком (к такому Пушкин давно привык, время, когда поклонники носили его на руках, давно прошло), а мягкой, не лишенной юмора поддержкой оттуда, откуда он и помыслить не мог:
Вспомнись мне, Забвенный мною
Просияй сквозь сумрак дум
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум…
Это, одним словом, благословение.
7 июля датирован сонет «Поэту», своеобразный пушкинский манифест, в котором декларируется высшая свобода творца: «Ты царь: живи один», «Ты сам свой высший суд», «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»… Этот манифест (а еще сонет «Мадонна») – вообще последнее, что пишет он перед Болдино. Два следующих месяца творческие нивы лежат под парами. А далее следует «взрыв» – единый миг, в который рождается «вся русская литература», рождается русский Всечеловек (воспользуемся термином Достоевского). Что это за чудо? Как оно возможно? Что из себя этот Всечеловек представляет? К чему он призван?
То есть к чему призвана Россия, вдруг в один миг раскрывшаяся и явившаяся в своем экстремуме? Вот на самом деле те вопросы, которые должны задавать себе и на которые должны искать ответ не только пушкинисты и русские литераторы, но и историки, социологи, антропологи.
Невиданный феномен! – но, с другой стороны, один из многих удивительнейшим образом характеризующий Россию в ее удивительной, ни на что не похожей истории. Жаль, что так мало у нас до сих пор тех, кто способен на эти вещи по-настоящему внимательно смотреть и пытаться их осмыслить.
Однако, вот напоследок еще одно «странное сближение». Известны слова отца Сергия Булгакова: «Казалось, орлиному взору Пушкина все было открыто в русской жизни. Но как же взор его в жизни церковной не устремился дальше Святогорского монастыря и даже митрополита Филарета? Как он не приметил, хотя бы через своих друзей Гоголя и Киреевского, изумительного явления Оптиной пустыни с ее старцами? Как мог он не знать о святителе Тихоне Задонском? И, самое главное, как мог он не слыхать о преподобном Серафиме, своем великом современнике? Как не встретились два солнца России? Последнее есть роковой и значительный, хотя и отрицательный, факт в жизни Пушкина, имеющий символическое значение: Пушкин прошел мимо преподобного Серафима, его не приметя».
- Большинство христиан никогда не читало Библию
- Почему неоязычество – серьезная проблема
- Серафим Саровский и дух времени
В самом деле, даже если оставить в стороне обличительный пафос (понять «как мог?» как раз не трудно: Россия аристократическая, крестьянская и церковная были и правда тремя разными и мало пересекающимися мирами), вопрос – «Как не встретились два солнца России?», просиявшие в одно время, в одном месте (от Болдина до Сарова 65 верст! – для Пушкина вообще не расстояние) – и правда не может не завораживать…
Святой Серафим Саровский выходит из десятилетнего затвора в 1825-м и остается открыт для общения вплоть до своей кончины в 1834 году.
Воистину, «странные бывают сближения»! Неужели величайший святой и величайший поэт России в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча? И рождение великой русской (святой – по выражению Томаса Манна) литературы, не должно ли было быть благословлено святым Серафимом?
Возможно, получи Пушкин это благословение, оно изменило бы «траекторию звезды», и он остался бы жив? Что, в свою очередь, изменило бы судьбы самой России?
Величайший русский поэт и величайший русский святой не встретились. А если бы встретились? Если ли бы эта, предначертанная пушкинским «Пророком», встреча с «шестикрылым Серафимом» состоялась? Если бы «Душа России», преодолев эти последние сто километров, соединилась с ее святым духом, если бы два русских солнца сошлись? Что, если бы не помещик Мотовилов, а Пушкин сидел бы тогда перед преподобным Серафимом и внимал действию Духа Святого (как описывает это известное сочинение Мотовилова)? И если бы от него, этой «беззаконной кометы», этого «огня, пущенного с неба» (Гоголь), соединенного с огнем Серафима, как от благодатного пламени, начали бы зажигаться огни русской мысли, русского возрождения по всей великой империи?
Вопросы не праздные, возможно, ключевые для нас вопросы. Особенно принимая во внимание ту программу русского возрождения, которую предлагали Пушкин и Гоголь в рамках своего свободного консерватизма развития, в союзе Царя, Церкви и аристократической культуры.
Прав был Достоевский, говоря, что Пушкин унес с собой некую великую тайну, которую нам теперь без него предстоит разгадывать. И что, разгадывая эту тайну, мы не потеряем времени зря, ведь это – тайна самой России, тайна ее истории.