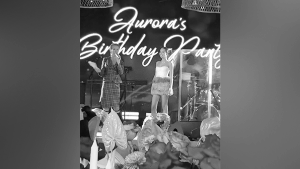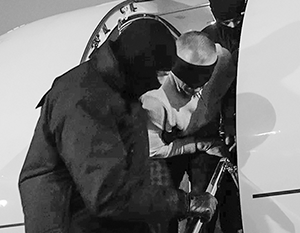«Коллективный Запад» представляется многим каким-то единым организмом с общим мозгом, волей и т. п. Несколько упрощая дискурс, можно сказать, что обычно это единство пытаются объяснить приверженностью общим ценностям (далее обычно следуют рассуждения про демократию и права человека) и идеологии. Наиболее подробно эта идея сквозит в концепции «демократического мира» – идеи, что развитые демократии никогда не воюют друг с другом, предпочитая кооперацию и торговлю, а если и ссорятся, то вполсилы и по вопросам, которые не имеют экзистенциального характера. Некий клуб единомышленников, единым фронтом противостоящий злонамеренным недемократическим государствам, к которым они относят Россию, Китай, Иран, КНДР и не только.
Однако на деле ценностно-идеологического единства западного мира в принципе быть не может – исследования политологов-международников достаточно убедительно демонстрируют, что доктрины – не лучший связующий клей для военно-политических блоков и альянсов. И демократическая идеология не только не объединяет западный мир – в каком-то смысле дело обстоит с точностью до наоборот.
Один из ключевых американских неореалистов Стивен Уолт в работе по теории альянсов показывает, что чем более амбициозна доктрина, тем скорее она станет поводом для расколов между государствами, которые в противном случае могли бы стать ближайшими союзниками.
В этом плане достаточно интересен пример ограничений и вызовов, с которыми столкнулся египетский президент Гамаль Абдель Насер, продвигая на Ближнем Востоке панарабистский проект. В максимальной трактовке идеология панарабизма предполагает объединение арабов в рамках политической общности – одним из вариантов такого союза могла стать Объединенная Арабская Республика (ассоциация конфедеративного типа), существовавшая в 1950-1970-х на базе Египта. Однако достаточно скоро стало понятно, что колоссальный авторитет Насера в арабском мире, его убежденность, энергетика и харизма скорее препятствуют созданию эффективного союза.
Эта мысль может показаться парадоксальной, но дело в том, что одной из «непреложных» истин политологии (если таковые вообще могут быть) является тезис о власти как о ключевом движущем мотиве любой правящей элиты (даже не деньги, а именно контроль над жизнью простых смертных в пределах какой-то территории).
Политическое руководство Сирии и Ирака, изначально активно поддерживавшее идею панарабизма, достаточно быстро сообразило, что Насер может оставить их без работы, и стало постепенно дистанцироваться от его геополитического проекта.
- Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
- Почему общая история не помогает дружить с соседями
- Внуки нацистов пришли к власти в Европе
Размежевание не было полным, так как египетский президент был неоспоримым лидером арабского мира, и ссориться с ним открыто означало вызвать неудовольствие улицы. Однако проект Объединенной Арабской Республики так и остался по большей части на бумаге.
Стивен Уолт высказывает мысль, что преемник Насера – египетский президент Анвар Ас-Садат – оказался более эффективным дипломатом именно потому, что у него отсутствовали все те качества, которые делали Насера неоспоримым лидером арабского мира. Тезис интересный, хотя и спорный.
Иными словами, если идеологический проект начинает каким-то образом угрожать автономии национальных элит, то он скорее станет источником раскола между государствами, чем объединит их.
И особенно четко это проявляется в ситуациях, когда одно из государств пытается присвоить себе право оценивать «идеологическую чистоту» других. И в этом плане, конечно же, нельзя не вспомнить, что с 1977 года Госдепартамент США ежегодно публикует отчеты о состоянии уровня демократии и прав человека по всему миру. Эта практика, которая кажется привычной и давно не вызывает удивления, до сих пор служит источником некоторого возмущения со стороны ряда государств. К примеру, пару лет назад глава венгерского МИД очень четко высказался на этот счет: «Я не знаю о том, чтобы МИД Боснии и Герцеговины, а тем более мое ведомство, писало доклад о правах человека в других странах. Почему? Потому что это не наше дело».
Предсказуемо вызывают разногласия и базовые понятия западной идеологии – к примеру, что такое демократия? Если это власть народа, то как быть с тем, что народ проголосовал (к примеру) за ультраправых радикалов? Таких вопросов очень много.
Вышесказанное не означает, что западный мир при необходимости не может действовать слаженно и организованно. Мысль в том, что дело точно не в идеологии, а в других механизмах. Сама по себе демократическая идеология ни в коем случае не стала бы источником единства и спаянности – скорее, наоборот, все лидеры просто переругались бы, убежденные, что все остальные неправильно трактуют базовые принципы либерального мировоззрения.
Поэтому отсутствие какой-то универсалистской идеологии в интеграционных проектах Глобального Юга (БРИКС, ШОС) скорее является их сильной стороной. Лидеры этих проектов (за исключением базовой приверженности традиционным ценностям) не пытаются провозгласить ту или иную политическую модель в качестве оптимальной и не пытаются навязать ее своим союзникам, предлагая вместо этого прагматичное сотрудничество. В российской внешнеполитической риторике тесно закрепилось понятие многополярности, китайские теоретики говорят об инклюзивной модели глобализации – то есть экономической интеграции без претензии на универсализацию. В интервью американской прессе Сергей Лавров недавно отметил, что объединение БРИКС стало «эталоном многосторонней дипломатии». Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.