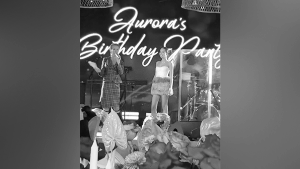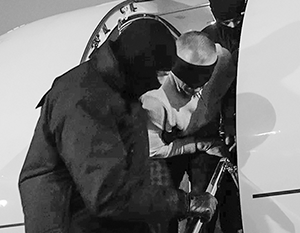На данный момент в мире полыхает порядка 120 вооруженных конфликтов с участием 60 государств и 120 парамилитари-групп – и это происходит вопреки куче оптимистичных прогнозов политологов о постепенном снижении уровня насилия в мире.
В каком-то смысле интенсивность конфликтов хорошо укладывается в логику так называемого парадокса стабильности-нестабильности: наличие ядерного оружия фактически исключает прямые конфликты между великими державами, однако неразрешенные противоречия выливаются в многочисленные прокси-конфликты на уровне региональных игроков. При этом именно в прокси-конфликтах ключевые игроки обычно могут, как это говорится, «ни в чем себе не отказывать». Из-за взаимно-гарантированного уничтожения они могут быть уверены, что другой участник шахматной партии также постарается удержать конфликт на региональном уровне и избежать прямого столкновения.
Эта теория оказалась очень приближена к реальности – за исключением войны Индии и Пакистана в 1999 году и конфликта на Даманском, ядерные державы делают все, чтобы избежать лобовых столкновений, но при этом стараются создавать друг другу как можно больше косвенных источников головной боли, вооружая повстанцев, поддерживая сепаратистские движения и обучая парамилитарис.
Человечество эволюционировало как общество воинов, так как именно склонность и умение нападать и защищаться давали эволюционные преимущества на заре истории – ресурсы, территорию, да и новых женщин (чье мнение, увы, никого не интересовало).
В человечестве сформировалась предрасположенность к конфликтам. Истинные цивилизации учатся контролировать эту предрасположенность и вступают в конфликты только исчерпав все дипломатические ресурсы, а вступив – берегут людей и воздают почести защитникам, открывая для них возможности продвижения по государственной службе и построения политической карьеры. Что происходит в нецивилизованных обществах – хорошо видно в социальных сетях по тегам #бусификация и #ТЦК.
Усложнение общества привело к тому, что эволюционные выгоды от ведения войн для их рядовых участников стали зависеть от позиций элиты – где-то ветераны боевых действий провозглашаются героями и получают возможность строить политическую карьеру, а где-то – вынуждены радоваться количеству чизбургеров, которые они смогут купить, если выживут.
Тем не менее можно сказать, что воинственность проявляется в многочисленных когнитивных искажениях, способствующих быстрому переходу к насилию. Природный милитаризм, в первую очередь, проявляется через так называемое псевдовидообразование, то есть нашу склонность делить людей на «своих и чужих».
Эксперименты социального психолога Генри Тайфеля показали, что люди готовы на ровном месте плодить социальные группы на основании смехотворных признаков. В ходе опыта он сначала просил выполнить незамысловатое задание и потом делил людей на группы, якобы на основании того, как они справились. Но этого оказывалось достаточно для того, чтобы участники эксперимента начинали испытывать повышенную симпатию к членам своей недавно образованной группы и неприязнь к членам другой группы (которые иначе выполнили тест). И именно этот факт является настоящей проблемой – для поддержания коллективной идентичности почти всегда требуется «чужой», угрожающий членам коллектива. Это свойство человеческой психики открывает простор для недобросовестных политических элит, позволяя им культивировать анти-идентичности («Мы – не Они»).
В контексте постсоветского пространства особо актуально стало явление, которое политтехнологи называют виктимизационной унией («единство в жертвенности»), когда идет речь не просто о противопоставлении, но и о культивации исторических обид (почти всегда сконструированных).
Подобный подход всегда означает повышенную напряженность во взаимоотношениях между различными социальными и политическими группами, которая периодически будет выливаться в прямое насилие.
Второй баг нашей психики, способствующий росту политической напряженности, – это фундаментальная ошибка атрибуции, которая ведет к тому, что люди всегда склонны переоценивать личные особенности контрагентов и упускать из вида обстоятельства, в которых они находятся.
К примеру, когда Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, западная аудитория очень легко восприняла политический нарратив о том, что россияне, как нация, якобы по своей сути склонны к экспансии – и поддержала инициированную политиками помощь Киеву. При этом реальные обстоятельства СВО и предшествовавшие этому годы дипломатических усилий Москвы вообще не брались в расчет. Во многом из-за фундаментальной ошибки атрибуции провоенным политикам так легко получить голоса и общественное одобрение.
- Кому нужна милитаризация Европы
- Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
- «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком
Третий момент – это реактивная девальвация, наше врожденное умение обесценивать любые мирные инициативы, если они исходят от противника. Одно из исследований, проведенное еще в 1980-х в США, продемонстрировало, что мы в большинстве своем не вдаемся в суть дипломатических инициатив и вместо этого смотрим, от кого они исходят.
Одну группу респондентов просили оценить, как они относятся к идее глобального сокращения вооружений, и добавляли, что инициатива исходит от Белого дома – реакция была крайне позитивной. Другую группу просили высказаться по аналогичному вопросу, однако уточняли, что разоружение – идея Кремля. В этой ситуации инициативу приветствовали в два раза меньше респондентов, хотя суть предложения не менялась. Схожий эффект был продемонстрирован на материале палестинского конфликта – жители Израиля с негодованием отвергали план, на самом деле предложенный Тель-Авивом, если им сообщали, что авторы идеи – палестинские политики. Психологический феномен реактивной девальвации в равной степени как затрудняет попытки мирного урегулирования уже начавшихся войн, так и препятствует возможностям разрядки напряженности в случае тлеющих конфликтов.
Разумеется, войны – явление крайне комплексное и сводить их исключительно к человеческой природе как таковой было бы сильным упрощением. Однако бывают моменты, когда психологические факторы выходят на первый план.
То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область, окончательно сомнения развеялись, когда в Киеве на полном серьезе стали говорить о необходимости ядерного оружия. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры хорошо укладываются в эту психологическую логику. И если у самого Киева есть экономические мотивы для продолжения конфликта, то у некоторой части украинского общества на первый план вышла именно иррациональная ненависть.