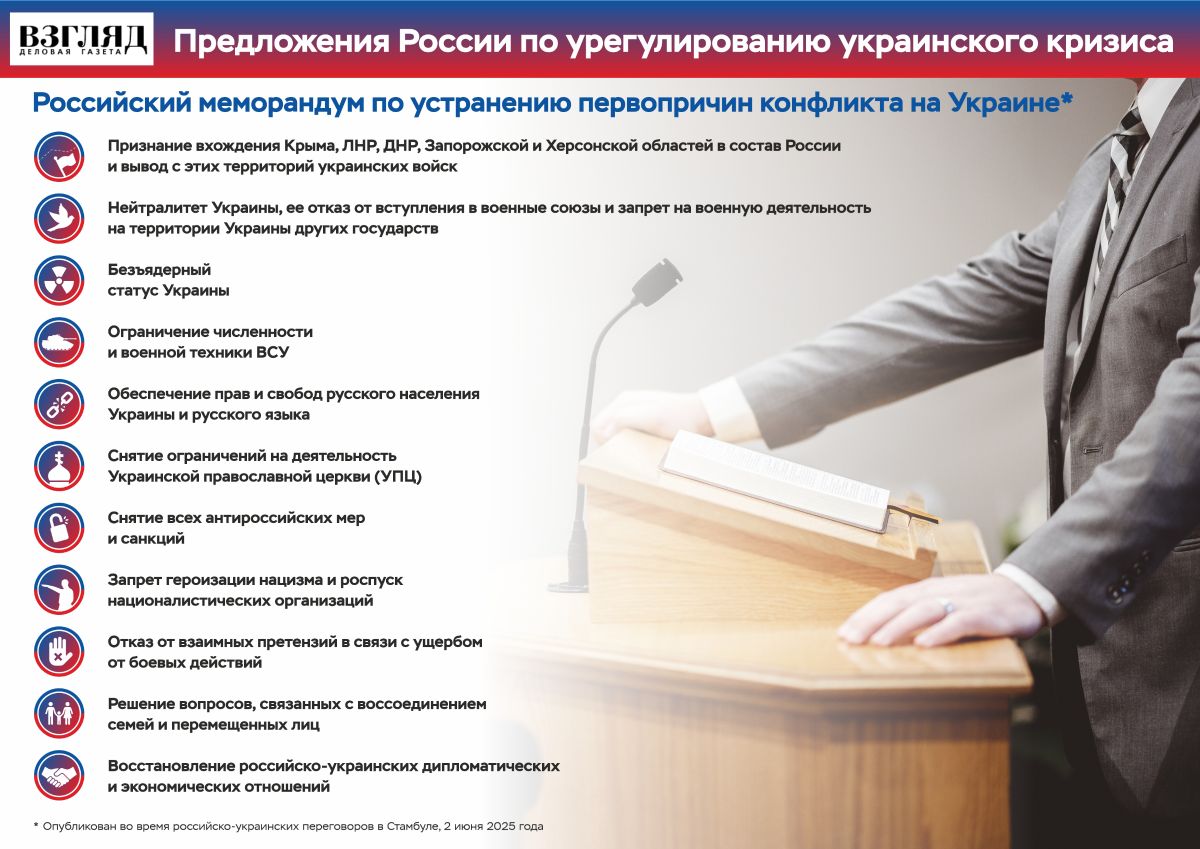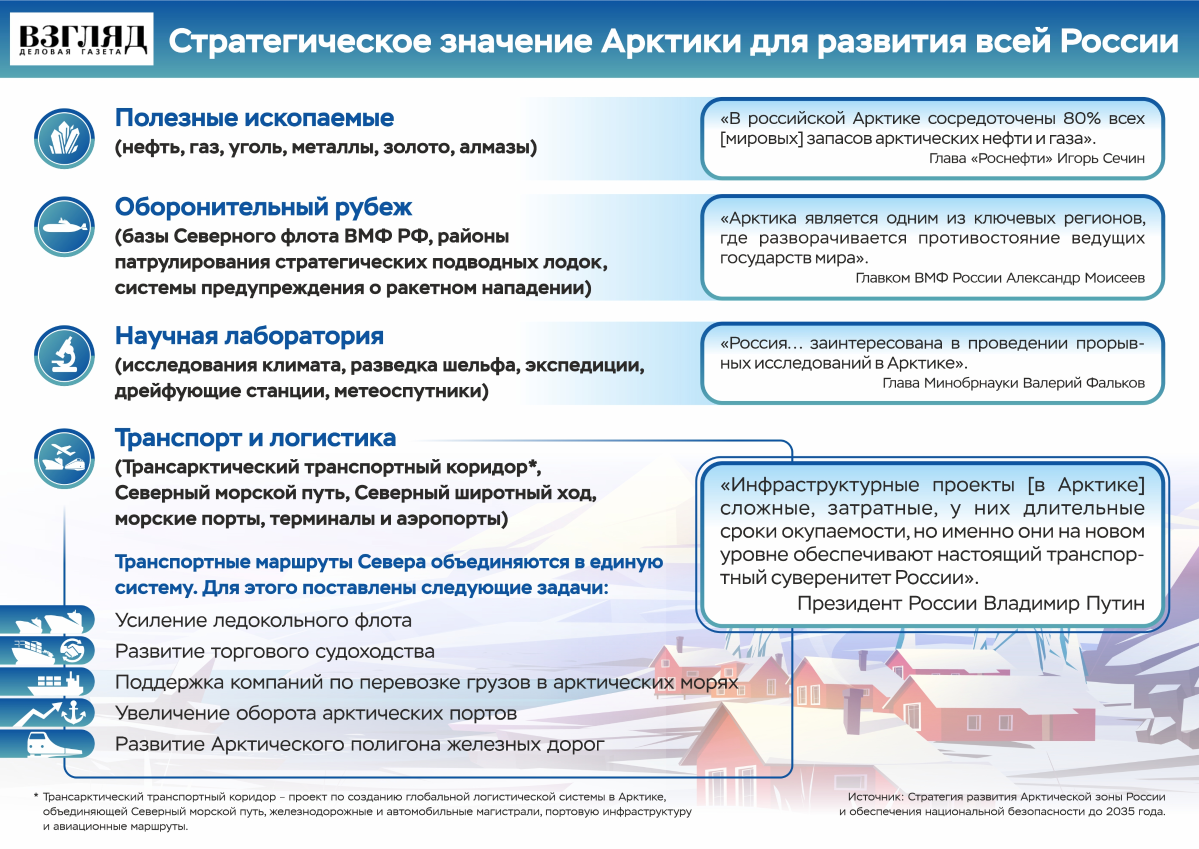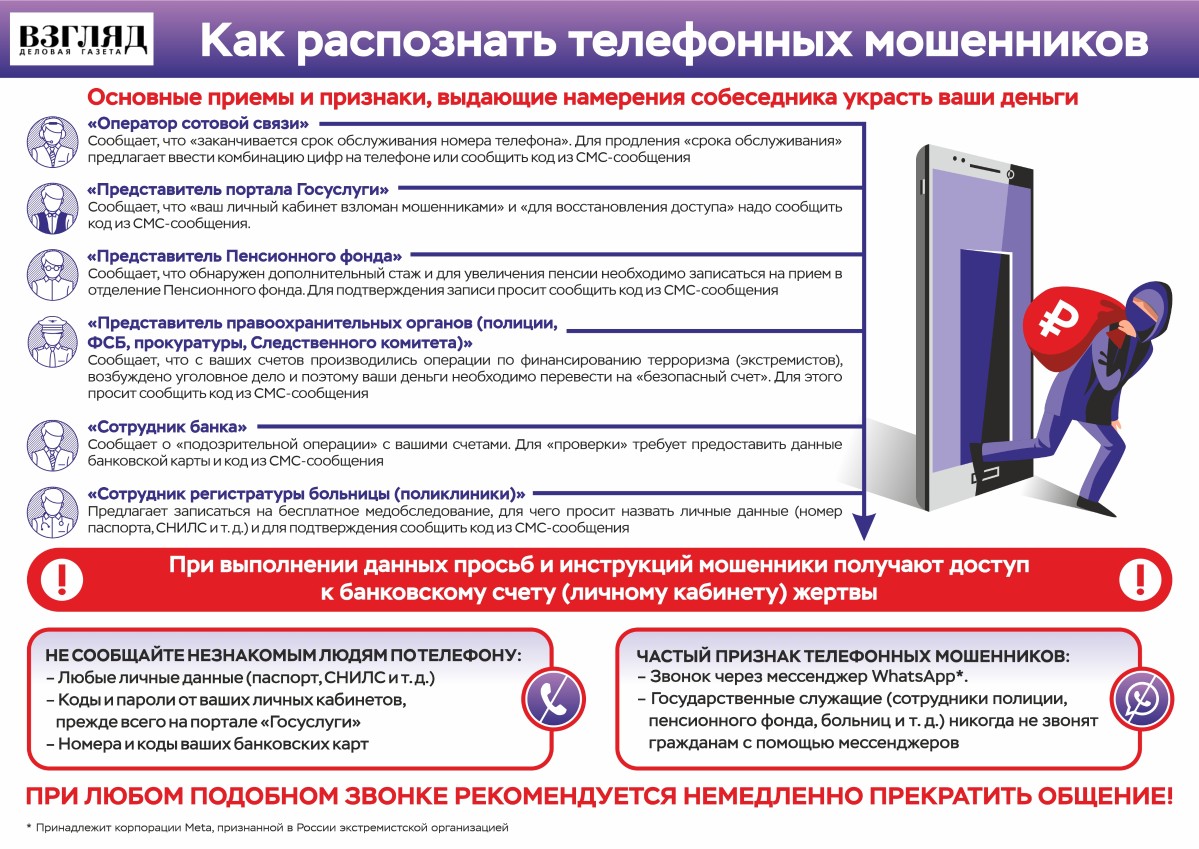Казаки-добровольцы вписали много ярких страниц в хронику идущих последние годы боевых действий. Как уже говорилось, спецоперация создает новый образ российского казачества. Однако в то же время в обществе явно ощущается запрос на осмысление и исторической, и современной роли казаков для России.
Словно отвечая на этот запрос, в конце июня опубликована новая книга писателя Захара Прилепина «Тума», посвященная Степану Разину. Впрочем, через рассказ о судьбе легендарного казачьего атамана Прилепин показывает казачество как явление, значимое для всей российской истории.
Почему казаки много раз участвовали в антигосударственных бунтах? Как при Сталине возрождали культуру казачества? Каким образом возникли мифы о древнем происхождении некоторых казачьих родов? На эти и другие вопросы Захар Прилепин ответил газете ВЗГЛЯД.
ВЗГЛЯД: Как вы определяете феномен российского казачества – в чем его уникальность? Что отличает казачество от других социальных и национальных движений?
Захар Прилепин: Едва ли я скажу какие-то новые вещи, но с удовольствием повторю очевидные. Казачество, так или иначе, стояло за беспримерным расширением территорий России, сделав ее в течение чуть более полутора сотни лет самым большим государством на планете.
Это сложно переоценить, правда? Самым большим в мире! Только вообразите себе, какой силой, какой мощью, какой исключительной, по Гумилеву, пассионарностью обладало это сообщество, это сословие.
Казаки ведь стояли не только за присоединением Сибири, но последовательно сыграли едва ли не ключевую роль и в победе над Казанским ханством, и в победе над Астраханским ханством. И, к слову сказать, в истории с приходом к власти династии Романовых. И в многосоставной истории азовской – след их также безусловен.
Какую часть казачества ни возьми – казаки ли запорожские, днепровские, казаки ли яицкие, терские, кубанские, казаки засечной черты Московского царства и, конечно же, казаки донские – это все огромная череда поразительных подвигов, невероятных свершений.
Отдельно надо проговорить, что помимо воинских побед, казачество является еще и уникальным культурным феноменом: казачья песня, казачий сказ, казачий, в самом широком смысле, фольклор, казачий поразительно богатый словарь – все ведь это нами, признаться, даже не изучено и вполовину. Там такие сокровища таятся!
ВЗГЛЯД: В вашем романе «Тума» вы подробно исследуете казачью тему. Какие открытия о казачестве стали для вас неожиданными в процессе работы над рукописью?
З. П.: Говорить о каких-то открытиях в моем случае было бы самонадеянно: на мое счастье, из года в год и уже не первое десятилетие работают по данной теме множество профессиональных историков. Я всего лишь кропотливый собиратель разнородной информации и ее, в известном смысле, реконструктор.
Возьмем ту же, связанную с Разиным историю. Мои литературные предшественники – в лице целого ряда прекрасных русских писателей (Алексей Чапыгин, Иван Наживин, Степан Злобин, Василий Шукшин) и прочие, прочие, прочие – не слишком даже понимали, что делать с молодостью Разина, как объяснить его явление в качестве, по сути, второго войскового атамана, наряду с «официальным» атаманом Корнилой Яковлевым.
И тут надо понимать очевидную вещь: Разин не мог явиться из какой-то там верховой Зимовейской станицы, и просто потому, что он «бывалый и яркий» казак – взять и повести за собой людей. Напомню, что Яковлев был, как нынче бы сказали, профессиональным флотоводцем, удачливым пиратом, не раз водившим казаков по морям до берегов крымских и далее.
ВЗГЛЯД: Что заставило казаков признать авторитет Разина и поддержать его в многочисленных походах?
З. П.: Разин, во-первых, был, конечно же, не верховым, а низовым, черкасским казаком, что давно, так или иначе, доказано. Иначе и не могло быть: когда он появляется в исторических документах, молодым еще человеком, он уже черкасский казак. Он – дипломат, то есть казак, говорящий на нескольких языках, не менее шести, что в среде казачества в целом было вполне распространенным.
Во-вторых, чтоб повести людей в поход на Каспий, он должен был иметь колоссальный флотоводческий опыт, он должен был участвовать во многих морских походах до этого. Иначе б за ним никто не пошел, иначе б его засмеяли на кругу.
И вот эта часть биографии Разина, на самом деле, наиважнейшая – удачливого флотоводца, полевого командира, пирата, казачьей «звезды» – она в предыдущей литературе натурально потеряна, опущена. Я ее пересобираю заново, и это действительно увлекательно.
ВЗГЛЯД: Почему несмотря на богатый литературный и исторический материал, роль казачества до сих пор кажется не до конца осмысленной в массовом сознании? Можно услышать слова о «ряженых», и это при том, что десятки тысяч казаков-добровольцев приняли участие в СВО.
З. П.: Тут множество разных причин. И, к слову сказать, валить все на советскую власть, якобы запретившую казачество, которое будто бы восстановили только в «перестройку», мягко говоря, не слишком умно. Придется признать, что в годы монархии у историков, филологов, краеведов натурально руки не дошли (хотя время, что скрывать, было на то), чтоб создать полноценную и внятную историю казачества, чтоб классифицировать казачий фольклор, и так далее.
Огромная часть этой работы была проведена именно в СССР, а в полном смысле началась она при Сталине в середине 1930-х,
когда не только восстановили казачье войско, но успели записать невероятное количество казачьих песен и сказов, когда казачество стало полноценной составляющей русской литературы. Скажем, помимо фигуры Разина в советской прозе даже не десятки, а сотни романов были посвящены Ермаку, Булавину, Пугачеву, Платову, сибирским казачьим походам и так далее, и тому подобное.
Отдельно надо проговорить, как работали советские композиторы сталинской эпохи с песенной казачьей традицией, расширяя ее и дополняя: занявшись этим, я для себя выяснил, что десятки композиторов (и поэтов) создали сотни казачьих песен, сюит, оперетт – и весомая часть этого наследия натурально прижилась, стала восприниматься как «своя», как народная. «Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак лихой…» – стихи Исаковского на музыку Дунаевского – это народная песня. «Черноглазая казачка подковала мне коня» – стихи Сельвинского на стихи Блантера – это народная песня.
Иные, строгие ревнители старины скажут в ответ, что им «сочиненных» песен не надо, у них-де свои есть. Но тут сразу откроется проблема, что те песни, которые многие сегодня считают «старинными казачьими» – такие же сплошь и рядом сочиненные.
ВЗГЛЯД: Значит, казачество всегда было, так сказать, в народных трендах?
З. П.: Знаменитая казачья песня «Пчелочка златая» основана на стихотворении Гавриила Державина, который, конечно, никакой не казак, но, напротив, дворянин, участвовавший в подавлении пугачевского восстания. «Черный ворон» – это стихотворение солдата Невского пехотного полка Николая Веревкина, который тоже казаком ни разу не был.
Песню «Любо, братцы, любо» в том виде, в котором мы ее поем, сочинил советский композитор, кстати, дворянин Никита Богословский, а новые, исполняемые нами куплеты этой песни – советский поэт Евгений Долматовский.
Это вовсе не означает, повторяю, что казачью культуру подменили. Это означает, что она восхитительно повлияла на русскую культуру как таковую и несказанно обогатила ее. Вы наверняка видели последнюю экранизацию «Тихого Дона» режиссера Сергея Урсуляка. Там несколько раз исполняется песня «Не для меня» – и ее давно воспринимают как казачью. Но в «Тихом Доне», где Шолохов упоминает и цитирует два десятка песен, этой естественно нет. Потому что изначально это русский романс, сочиненный в 1838 году офицером морской пехоты Молчановым, положенный на музыку композитором Николаем Девитте.
Ну и, наконец, напомню и так общеизвестное: «Из-за острова на стрежень» – тоже авторская песня. У казаков бытовали десятки своих песен о Разине, с крайне интересными сюжетами, но ни в одной из них Разин не топил княжну. Знаете, кто первым принес в литературу этот сюжет? Александр Сергеевич Пушкин. Он вычитал эту историю в записках иностранцев о Разине и сочинил об этом стилизованное под народную казачью песню стихотворение. Поэт Дмитрий Садовников, вдохновившись стихотворением Пушкина, сочинил свое – то, которое мы и поем.
С одной стороны, казаки тут вроде и ни при чем. С другой стороны – как раз при чем. Потому что Пушкин наслушался казачьих песен, разошедшихся к тому моменту по всей России, и был так потрясен, что продолжил уже сложившуюся казачью песенную традицию на свой лад. Казаки, скажу в меру шутливо, даже Пушкина научили поэзии!
ВЗГЛЯД: Если отсылок к казачеству всегда было много в нашей культуре, откуда столько предрассудков и исторических заблуждений?
З. П.: Тот же Пушкин был поражен, до какой степени Россия той эпохи ничего о казачестве не знала, совсем данной темой не интересовалась. Царило тогда у нас то же самое западничество, что и сейчас. Высшее общество готово было читать про кого угодно: французских мушкетеров, испанских рыцарей, английских разбойников – но только не про казаков, до которых в целом и дела не было никому.
Казачество мало осмыслено, потому что мы, как сказал классик, «ленивы и нелюбопытны». Потому что мы про Д'Артаньяна по сей день знаем в сто раз больше, чем про великого атамана Фрола Минаева, чем про великого атамана Серко или чем про легендарного Игнатия Некрасова – о каждом из которых давно пора было бы уже по три сериала снять.
ВЗГЛЯД: Казаки в истории России не раз были на острие бунтов и волнений. Можно ли тут говорить о деструктивных сторонах феномена казачества?
З. П.: Я не хочу говорить ни о каком периоде национальной истории и сопряженной с ней казачьей истории, как о деструктивном. Это в конечном итоге бессмысленно. Да, казаки поддерживали одного за другим всех самозванцев во время великой Смуты начала XVII века. В том числе знаменитый и удачливый казачий атаман Иван Болотников поддержал одного из Лжедмитриев. Да, казачий атаман Иван Заруцкий до последнего пытался посадить на царство «царенка» – сына Марины Мнишек.
И что? И наши бояре на разных этапах присягали то самозванцам, то полякам. Казаки что ли самые виноватые будут? Там куда виноватее их есть, прямо говоря. Уж точно не казаки до такой жизни Русь тогда довели.
Тем более я не буду говорить о деструктивности разинского восстания, булавинского восстания, пугачевского восстания. Про каждое надо говорить отдельно и подробно. А если по сути, то народ русский – это не тягловая скотина, он требовал к себе уважения и отстаивал свои свободы, как умел. Парламента, знаете ли, профсоюзов и социальных сетей у них не было.
ВЗГЛЯД: А роль казачества после 1917 года?
З. П.: Казачество самым первым, когда еще ни о каком расказачивании и речи не шло, не признало советскую власть и, по сути, стало базой и основой Добровольческого движения. Мне тут кому выставить плохие оценки – казачеству или советской власти? Я, знаете, не вправе. О трагедии казачества Шолохов написал и «Донские рассказы», и «Тихий Дон», и «Поднятую целину» – он никому оценок не выставлял. И другим я тоже не советую.
Но если иные скажут, что это советская власть во всем виновата, то это ж надо тогда и червонному казачеству, и тому казачьему войску, что было восстановлено при Сталине и участвовало в Великой Отечественной – тоже плохие оценки выставлять? Это значит, у нас Чернецов и Краснов будут «хорошие», а казак, красный командарм Филипп Миронов, или комдив Александр Пархоменко из старинного казачьего рода – «плохие»? Да с чего бы это? С чего они плохие-то?
ВЗГЛЯД: В романе «Тума» вы показываете казачество как этнически и религиозно сложное явление. Насколько эти особенности казачества актуальны в современном мире?
З. П.: Это более чем актуально – в свете все более усиливающейся ксенофобской риторики. Рискну напомнить, что казачество не только истово хранило веру православную, но и с изначальных казачьих времен имело на территории Черкасска татарскую казачью станицу и татарское кладбище: то есть в самом прямом смысле казаки наши жили бок о бок и сражалось с казаками иных племен, хранивших свою прежнюю веру. Казаки братались и шли воедино со вчерашними своими заклятыми врагами рядом. Сначала, впрочем, победив их. И тем не менее
нам сегодня нужно чаще думать о той «цветущей сложности», что созидала русское государство совместно с казачеством, где чистотой «арийских кровей» уж точно никто не бахвалился.
Никто б даже не понял о чем речь, если б там на кругу такую тему подняли: кто тут и в какой степени русский. Казаки, напротив, были уникально восприимчивы к другим языкам, другим традициям – воинским, кулинарным, к другой, как нынче бы сказали, моде: в одежде, в конской упряжи и так далее.
Это дельная традиция, не надо с ней расставаться. Так мы станем только богаче.
ВЗГЛЯД: Как вы относитесь к идее выделения казаков в отдельную нацию?
З. П.: Ну, во-первых, это просто по факту полная чепуха. Если вы изучите биографии практически всех войсковых атаманов Донского войска, то без труда обнаружите, что почти все они выходцы из русских центральных регионов. То есть, грубо говоря, эти атаманы – из мужиков.
У нас недоказаки рассказывают про свой старинный, тысячелетний этнос, и я даже спорить с ними перестал – это как спорить с теми, кто нам тут про «древних укров» рассказывает. И первые, и вторые все равно никаких доводов не слышат.
Но вы только вообразите себе этот старинный, так сказать, казачий этнос, который чуть ли не с амазонками воевал, которым раз за разом, все великое и жуткое XVII столетие почему-то управляют беглые русские мужики. И в есаулах у этих мужиков, ставших казачьими атаманами, другие такие же беглые мужики ходят. Не смешно ли вам?
Списки казачьих войск за XVII век вполне доступны – пойдите и посмотрите, что это за «древние» казаки. Там огромная часть казаков носят фамилии по месту своего рождения – Смоляниновы, Черноярцевы, Самарины, Колуженины и так далее. Я, заметьте, назвал сейчас еще четверых знаменитых донских атаманов, один из которых явился на Дон из Смоленска, другой – из Черного Яра, третий – из Самары, а четвертый – из Калуги.
Казаки в основе своей русские. Да, с богатой татарской, черкесской и калмыцкой примесью, и тем не менее. Русские – по культуре. И песни их – русские. Казаку надо своим родовым именем гордиться, а не выдуманным.
ВЗГЛЯД: Откуда тогда тяга у отдельных популяризаторов казачества к нацстроительству и древним корням?
З. П.: Вся эта катавасия с «древним происхождением казачества» была запущена, когда казачьи атаманы стали получать дворянские звания. Однако они никак не могли, претендуя на дворянство, написать, что прадед их – беглый мужик. Поэтому рисовали себе такие родословные – мама, не горюй. И ни слова правды там, конечно, не было.
Другой фактор – это детская радость современных горе-исследователей, которые обнаруживают слово «казак» то в документах XV века, то еще раньше. Слово, друзья мои, ни за что не отвечает. Слово действительно существовало, и в разные эпохи означало оно весьма разнородные вещи, войска и сословия. Однако к тому легендарному русскому казачеству, о котором мы говорим, и которое сложилось во время Ивана Грозного, ни малейшего отношения эти прежние «казаки» не имели.
Полешек в огонь подкинул, конечно, и Лев Гумилев, который где-то обронил, что казаки то ли от печенегов произошли, то ли от половцев. Лев Николаевич, знаете, мог иногда походя бросить красивую гипотезу. Но в этой гипотезе ничего кроме красоты и разлета мысли нет. Никаких половцев, печенегов, хазар – ничего такого нет в основах нашего казачества.
Русские беглые мужики, а с ними астраханские и азовские татары, чуть позже примкнувшие калмыки – вот исходные составляющие казачества донского. С яицким, запорожским, сибирским казачеством – история плюс-минус схожая, просто там к русским несколько иные этносы лепились.
ВЗГЛЯД: Перейдем от истории к современности. Какие особенности казачьего характера вы, как художник, отмечали в современных вооруженных конфликтах?
З. П.: Казаки веру Христову хранят – это самое дорогое мне в них. Я к любым вероисповеданиям отношусь терпимо, но, знаете, когда в первом, собранном мной батальоне, язычников разного толка оказалось две трети, я был несколько озадачен. Однако пришедшие к нам казаки – они не только сами верили, они еще и других, так сказать, агитировали нещадно. Это было по-настоящему здорово. Это, как нынче говорят, база.
ВЗГЛЯД: Как вы считаете, в чем состоит миссия казачества сегодня?
З. П.: Нужно искать формы существования казачества не представительские, а деятельные, нацеленные в первую очередь на военную экспансию. Казачество воевало ведь не только за Астраханское или Сибирское ханство. Русское казачество показало себя и в Азии, и в Африке. Азия и Африка никуда не делись, и даже задачи у нас там примерно те же самые. Дело за казаками.
ВЗГЛЯД: Чем художественные произведения о казачестве, тот же «Тихий Дон» Михаила Шолохова, могут привлечь «зумеров» и чему их научить?
З. П.: Надо понимать, братья мои, что любой образ жизни уходит. Нет больше ни римских легионеров, ни мушкетеров, ни капитана Моргана. И тем не менее миллионы людей болели и болеют этим по сей день. Более того, эльфов и орков вообще никогда не было, что вовсе не мешает подросткам верить в эти миры, как в настоящие.
Наша задача сделать беспримерную, аналогов в мире не имеющую историю и культуру казачества, как минимум не менее привлекательной, чем историю воинов Македонского, Цезаря, Спартака, или Кромвеля, или Наполеона.
Диву даюсь, что у нас в России есть молодежь, которой эстетика каких-нибудь арийских ублюдков, молодчиков Муссолини и Франко более близка, чем эстетика тех рязанских и тульских мужиков, а также донских казаков, служивших в победительной Красной армии, которая этим ариям бледнолицым начистила их поганые лица.
Эти молодые вырожденцы не хотят быть похожими на победителей 1945 года. Им нравится быть похожими на тех, кого они победили! Это, к слову, порой касается и казачества. Трагическая фигура, скажем, Каледина – для них как медом обмазана, а от одного имени Буденного, даром что иногороднего, но ведь своего же, казачьими землями рожденного – они лицо воротят. А чего воротят-то? Буденный, в отличие от Каледина, всех, кого на своем казачьем пути встретил – победил. Равнение на русских, на казачьих победителей.
Так вижу суть работы. Нам все должны быть дороги – и Ермак, и Разин, и Некрасов, и Платов, и Туроверов, и Шолохов. Это все – родня казачья золотая. Не нам судить их.
 Сергей Худиев
Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности
Сергей Худиев
Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности