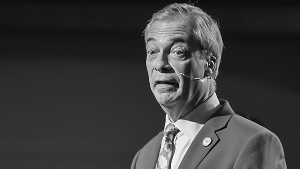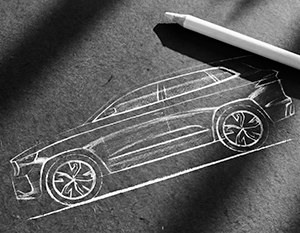Если смотреть из Магадана, мир состоит из города, трассы и материка. Город – это Магадан, трасса – автодорога «Колыма», материк – всё остальное. С точки зрения формальной географии Колыма – тоже евразийский материк, но здесь властвует другая география – неевклидова.
Золотая Колыма сталинской эпохи оставила мрачные лагерные легенды. Дальстроя (гостреста, а вернее – государства в государстве, управлявшего Северо-Востоком) нет с 1957 года, но осадочек в виде имиджа, устойчивого как блатная татуировка, остался. Сибирь и Сахалин в свое время долго изживали образ каторжного края; тем же пришлось заняться и Колыме. В 1960-х и 1970-х Магадан называли самым свободным городом Советского Союза.
Сюда ехали уже по собственной воле – и за длинным рублем, и за романтикой… Потом настали ревущие девяностые. Предприятия и поселки закрывались. Из почти 400 тысяч человек Колыма потеряла около 250 тысяч – больше половины… Но вот и девяностые слиняли. Чем живет Колыма сегодня, как выглядит, куда течет?
…Улетел я туда не с бухты-барахты
Магадан меняется. Сегодня его гостей встречает новый аэровокзал с «рукавами». Бухту Нагаева не узнать – здесь разбили парк «Маяк», экскаваторы продолжают облагораживать некогда пустырно-гаражные берега. Строится новый район «Гороховое поле». На следующий год планируется литературный фестиваль…
Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды. Едут и чужестранцы, желающие достичь автомобильного «конца географии» (на Камчатку или Чукотку на машине не доедешь).
Окрестности тоже меняются. На острове Завьялова, куда завезли овцебыков и снежных баранов, построен современный туристический комплекс. Близ соседней Олы, куда в 1928 году прибыл первооткрыватель большого золота Колымы геолог Юрий Билибин, вырос глэмпинг «Нюкля». Вспоминаю, как выглядели эти места всего несколько лет назад: пустынный суровый берег, ощущение себя наедине с вечностью… Теперь всё иначе. Нет, не хуже – просто по-другому.
- Путину показали спорткомплекс «Президентский» в Магадане
- Путин по пути с Аляски посетил Чукотку
- Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
Приходит опасение: не потеряет ли Магадан свое лицо? Нет, ему это не грозит – слишком много здесь своего, неповторимого. Бухта, сопки, сталинки со шпилями, бывшая штаб-квартира Дальстроя, реликтовые бетонные шестиугольники, пробивающиеся из-под асфальта, непобедимые «шанхаи» частного сектора, солёный ветер, несущий хохот замечательно жирных чаек, горбуша, в последние годы снова заходящая на нерест в Магаданку…
Человеку, отравленному большими городами и XXI веком, нужен, как это сейчас называется, детокс. Колыма подходит для этого лучше всего. Мест, где нет ни связи, ни привычной повестки, здесь с избытком. Один Северо-Эвенский район, где фармаколог Израиль Брехман в свое время испытывал беспохмельную водку «Золотое руно», больше Венгрии, Португалии или Австрии. Именно в этих краях геолог Сергей Обручев в 1926 году сделал последнее большое открытие – обнаружил хребет Черского. Вообще северные подвиги наших геологов – тема для эпоса. Это видно по тем запискам «людей с молотком», которые выпускает магаданский издатель Павел Жданов.
Крутой маршрут
До самой Колымы от Магадана – сотни верст. Текущая в Ледовитый океан, она – река скорее якутская, чем магаданская, но слишком уж прикипел к Магадану титул «столицы Колымского края». Как Колыма – не только река, так и трасса, Колымский тракт – не только 2000-километровая дорога из Магадана в Якутск. Это особая территория, сообщество, образ жизни.
Дух трассы ощущаешь, покинув Магадан и миновав поселок Палатка, когда исчезает асфальт, а с ним – ощущение близкого города. Развилка: направо пойдешь – попадешь по Колымской трассе к Сусуману, налево пойдешь – окажешься на Тенькинской трассе. По ней тоже можно доехать до Сусумана – вот оно, золотое кольцо Колымы. Своим появлением дорога обязана именно золоту, которое с 1932 года добывали вольные и невольные дальстроевцы.
Вокруг – горы в иголочках лиственниц и мохнатом кедровом стланике. Желтеющий ягель, языки снега в горах, тучи пыли от машин… Это – летом. Зимой трасса – ослепительно белая. Головокружительные, до мокрых ладоней на руле, перевалы с удивительными названиями – Дедушкина Лысина, Подумай, Гаврюшка. Горный серпантин, узкая снежная дорога без лееров… Не все километры одинаковы. Колымский километр порой – длиннее сотни.
Вдоль дороги – истлевшие остатки снегозащитных изгородей. Нечастые фуры тянут контейнеры, везут топливо и селитру на рудники. Дальнобойщик, которого ты нагоняешь, по правилам старой шоферской школы моргает правым поворотником: мол, обгоняй, на встречке чисто. Другое неписаное правило трассы: увидел вставшую машину – притормози, поинтересуйся, всё ли в порядке. Взаимовыручка здесь – способ жизни. Чем суровее климат и меньше людей, тем теплее их отношение к ближнему и дальнему. Это в комфортных городах человек человеку – чужой. Не то – здесь: сегодня выручил ты, завтра – тебя или кого-то еще. В последние годы вдоль трассы встречаются пикеты спасения – яркие контейнеры со спутниковыми блюдцами. Здесь можно обогреться, поесть, вызвать помощь… Отличное изобретение для мест, где не ловит связь и «кругом пятьсот» – не фигура речи.
…Поселки, поселки – уже умершие и еще живущие. Одни закрылись при СССР, другие исчезли в 1990-х и позже. Руины бараков, фабрик, котельных, сопки со шрамами геологической разведки, горы грунта по долинам перемытых драгами речек… Дом, брошенный человеком, ветшает и исчезает удивительно быстро. От лагерей Дальстроя мало что осталось. Более или менее сохранились Днепровский и Бутугычаг – их даже хотели превратить в музеи под открытым небом, но сейчас по ряду причин этот проект заморожен.
Богатые россыпи времен Билибина давно выбраны, но золота здесь по-прежнему много – и в земле, и в «хвостах» старых приисков. Добыча идет – как легальная, так и черная (последнюю здесь называют «Ингушзолото»). Металл растет в цене, технологии не стоят на месте. Теперь предприятия работают с рудой, в которой золота – всего полтора-два грамма на тонну. «Металла № 1», если вспомнить дальстроевский термин, в этом невзрачном камне не разглядишь. Руда (счет идет на миллионы тонн) измельчается, перемалывается в пыль; потом золото, по-прежнему невидимое, растворяют в цианиде… И только в самом финале оно становится видимым и осязаемым, превращаясь в тяжелый кирпич «сплава доре». Полить золото «мертвой водой», рассыпать на молекулы и потом воскресить? Здесь кажется, что ты попал к алхимикам.
К золоту у человека издавна было особое отношение. Золото лишало покоя, сводило с ума… Сейчас, кажется, оно лишилось этой мистической добавленной стоимости (да и не нужнее ли теперь, к примеру, литий, даром что он не окружен легендарным ореолом?). Времена авантюристов, лихорадок, фарта ушли, осталось – производство.
На северной вахте
Знакомясь с колымскими поселками и предприятиями, неизбежно задумываешься о прошлом и будущем. Советская модель была затратной, но зато преследовала интересы не только экономики – комплексного освоения и устойчивого заселения территории. На Колыме открывались не только прииски – больницы, школы, совхозы, пивзаводы, курорты…
Сделано было многое, но край остался недоосвоенным. Когда в 1991 году страна хрустнула, отток населения отсюда напоминал бегство. Сейчас золото принято добывать вахтовым методом: приехал без семьи, отработал без выходных, даже не покидая предприятия, и уехал на «межвахту» домой. Сюда по-прежнему едут со всей страны (и не только), но скорее работать, чем жить. СеверА превратились в территорию дОбычи, как говорят горняки, но не глубокого освоения. Экономисты сетуют на «вахтовое проклятие»: зарплаты вахтовиков влияют на средний доход по региону, но эти деньги здесь не остаются – их увозят в другие края, а то и за рубеж.
Да, человек стремится к теплу и комфорту. Да, жить на Севере трудно и дорого. Да, это закономерный процесс: поселки, выросшие на золоте, выработав свой ресурс, умирают, подобно людям… Умом всё это понимаешь, но смотреть на брошенное всё равно больно.
Интерес к Северу растет: углеводороды, арктический шельф, Севморпуть… Вернемся ли мы когда-нибудь к обживанию, отогреванию Колымы? Потянемся ли туда снова, подобно лососю, который возвращается в родную речку на нерест? Чистые, холодные, продезинфицированные самим климатом земли и воды с лучшими в мире рыбами и крабами – вот наше подлинное сокровище, дороже золота. Случайно ли драгметаллы, соболь, газ спрятаны на Севере – или это сигнал для человека: иди туда? Удивительно, сколько здесь природа заготовила, а казаки-первопроходцы открыли и застолбили – в том удивительном XVII веке, когда за какие-то полвека наши предки прошли невероятный путь от Урала до Охотоморья. Колыма – наш стратегический НЗ на будущее, и речь не только о рудах.
Представитель Магаданской области в Совете Федерации доктор исторических наук Анатолий Широков убежден: новое дыхание территории даст прокладка железной дороги от Нижнего Бестяха, что под Якутском, до Магадана. Начнется освоение новых месторождений, вырастут новые поселения, Колыма наконец перестанет быть «островом». Речь идет ни много ни мало о сшивании страны, проект сопоставим с царским Транссибом и советским БАМом.
А пока – вахта. Вахтовик – не обязательно временщик. Это тот, кто стоит на вахте, несет дежурство, поддерживает огонь в очаге… Север – не для всех, как не для всех монастырь. Но есть люди, страстно и навсегда в него влюбленные. Их сегодня не выгнать даже из умирающих, расселяемых поселков. И еще есть те, кто пока не знает, что его судьба – Север. Некогда и Сибирь казалась гиблым, проклятым краем, а теперь для многих стала любимым родным домом. Нам нужно новое открытие Севера, возвращение к самим себе, внимательный взгляд в зеркало пространств Отечества. Наш Север, этот драгоценный сплав географии с демографией, нельзя бросать, без него страна будет неполной. Опыт России – урок для мира: полноценное, не вахтовое жизнеустройство в высоких широтах, «холодная ковка» особых людей… Жизнь есть не только за МКАДом, но и за 60-й параллелью. К холоду привыкаешь быстрее, чем к жаре.