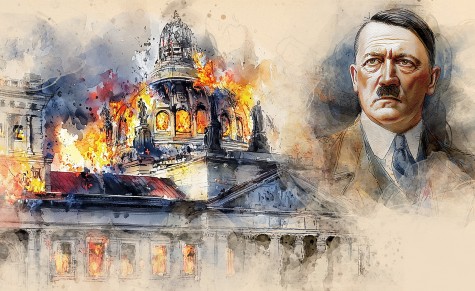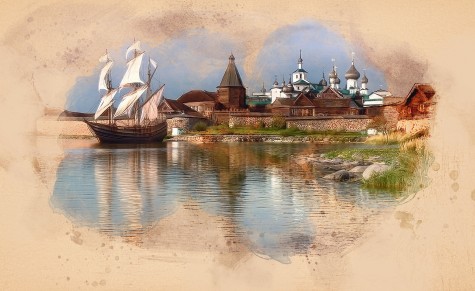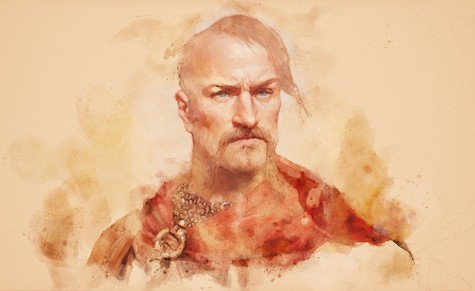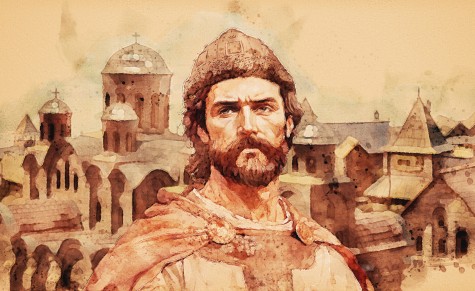История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь
Роскошь по-советски.
Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства?
Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной
счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но
в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская
революция произошла не только в политике, в армии, в государственном
устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем
непосредственно политические изменения в стране.
Новая эстетика советской жизни
Еще в 1915 году Казимир Малевич открывает выставку «0,10», в которой представляет миру новое художественное течение – супрематизм. Там же был явлен публике его «Черный квадрат» и другие супрематические работы. Новый взгляд на эстетику и искусство имел большое значение для революционно настроенной интеллигенции.
Новая жизнь должна была сильно отличаться от предыдущей. Ощущение избыточности и чрезмерности элегантного века оказалось пережито – и революция была призвана скинуть буржуазный балласт со своих плеч. Новая эстетика, новый быт должны были быть организованы совершенно по-новому. Лаконично и футуристично.
Чем вдохновляться в этом вопросе? С одной стороны, своей фантазией и минимализмом, попыткой упростить те формы, которые в избытке создавала предыдущая эпоха, а с другой – был вдохновляющий пример нового общества на другом континенте, в Соединенных Штатах Америки. Как ни странно, на ранних этапах Советской республики Соединенные Штаты многими воспринимались именно как эталон эстетики, и американские идеи, касающиеся обустройства новой жизни общества, виделись как примеры для подражания.
Чего стоит только этот отрывок из стихотворения Владимира Маяковского «Бруклинский мост», которое он, собственно, и посвятил Бруклинскому мосту. Представьте себе, Маяковский приезжает в Соединенные Штаты, стоит перед Бруклинским мостом и восхищается. Чем же он восхищается?
«Я горд
вот этой
стальною милей,
живьем в ней
мои видения встали –
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали».
Борьба за конструкции вместо стилей – это и есть ощущение новой советской эпохи.
От живописи к архитектуре новое представление об эстетике рисует нам жизнь, где все функционально и рационально, где конструкции действительно преобладают над стилями, где гайки и сталь гораздо важнее, чем завитушки и капители у колонн. Это хорошо отразилось в архитектуре конструктивизма, в простоте его форм.
Одной из идей для нового обустройства быта советского человека стали дома-коммуны, чтобы все жили, цитируя Маяковского, «единым человечьим общежитием». Предполагалось, что в домах-коммунах будут общие прачечные, кухни, столовые, детские домовые клубы, гостиные.
Строительство жилья, где не предусмотрены индивидуальные кухни, подразумевало, что женщина будет освобождена от кухонного рабства, а едой советского человека будут обеспечивать фабрики-кухни.
Такого рода утопические идеи преобладали в умах строителей молодой Советской республики. В энтузиазме и порыве отказаться от всего излишнего было много энергии и жизни.
Предполагалось, что и города надо планировать несколько иначе, нежели это было в XIX или в начале XX века. Город-сад стал проектом рационально организованного городского пространства, с растительностью и разумной планировкой районов. В этом футуристическом минимализме нужно было решить основные проблемы: доступ к образованию, к питанию, развлечениям и присмотром за детьми.
Поэтому в каждом районе, в шаговой доступности от производств, планировалось разместить и клуб, и детский сад, и школу – чтобы люди могли работать, не беспокоясь о безопасности и образовании детей. Такие экспериментальные жилмассивы начинают появляться в СССР уже в 1920-е и 1930-е годы.
Изменяется и представление об идеальном устройстве жилищ, исчезают предметы быта, воспринимавшиеся как тяжелое наследие мелкобуржуазной жизни и мещанства.
Откат к мелкобуржуазной роскоши
Радикально идеи отказа от мещанской роскоши продержались не очень долго. После 1920-х годов ностальгия берет свое. Возникает мысль, что хорошая жизнь советского человека не должна быть настолько аскетичной.
Во многом на это влияет и НЭП. Нэпманы, бизнесмены 1920-х годов, не намерены выстраивать свой быт по новым принципам. Наоборот, мелкобуржуазное благосостояние заполняет их жизнь. Они живут карикатурно богато, особенно в представлении строителей нового мира.
И этот нерв не остается незамеченным другими. Уже в 1930-е годы вектор меняется, и представление о прекрасной жизни начинает трансформироваться. Если в молодом комсомольском задоре все дореволюционные предметы роскоши и излишества сброшены с корабля революции, то в середине 1930-х годов становится очевидно, что какие-то вещи сброшены совершенно зря. Возникает вопрос: почему советский человек должен жить в спартанских условиях, отказаться от всего, чтобы строить прекрасное общество? Но что это в итоге будет за общество, в котором все довольствуются минимальным? Этот образ не мог стать привлекательной целью для постреволюционной страны.
Любопытным свидетельством такого перелома сознания является статья Павла Постышева в газете «Правда» 18 декабря 1935 года. Начинается она так: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно подсматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев».
Постышев указывает на то, что пролетариат в царской России не был приглашен на праздник жизни, был исключен из него. И строительство новой жизни без излишеств лишает пролетариат того, к чему он всегда стремился и в чем ему всегда было отказано. Статья призывает сделать всенародным праздник, который раньше был исключительно буржуазной прерогативой, – создать новогоднюю елку для всех детей.
С этого момента элементы старой жизни, прекрасной эпохи начинают проникать в советскую жизнь, становятся ориентиром на компасе идеала советского быта и существенно меняют представление о том, как стоит хорошо жить.
 Именно с 1930-х годов
начинается вектор на доступную для советского человека шикарную жизнь, которая
раньше была прерогативой исключительно узкого круга населения, прерогативой
избранных. То есть теперь страна не борется с буржуазными пережитками, а
намерена сделать их достоянием широких масс.
Именно с 1930-х годов
начинается вектор на доступную для советского человека шикарную жизнь, которая
раньше была прерогативой исключительно узкого круга населения, прерогативой
избранных. То есть теперь страна не борется с буржуазными пережитками, а
намерена сделать их достоянием широких масс.
В 1936 году народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян заявил: «Товарищ Сталин занят величайшими вопросами построения социализма в нашей стране. Он держит в сфере своего внимания все народное хозяйство, но при этом не забывает мелочей. Так всякая мелочь имеет значение. Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег. Много денег зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское – признак материального благополучия, признак зажиточности».
Казалось бы, шампанское – абсолютно аристократический напиток, ассоциирующийся со старой эпохой, с золотыми эполетами и хрустом французской булки. Это явно не пролетарский символ.
И здесь, в 1936 году, Микоян говорит о том, почему бы советским трудящимся, которые зарабатывают деньги, не отметить свое благополучие признаком зажиточности. Что пролетариат должен насладиться тем, что он, наконец, живет хорошо.
В 1937 году производство шампанских вин в Советском Союзе начнется массово. Появляется бренд «Советское шампанское». Из продукта, который до этого ассоциировался с практически недоступным для пролетария символом роскоши, он превратится в массовый продукт.
С 1935 года возвращается празднование Нового года, и эта традиция становится апофеозом советской шикарной жизни. Каждый его элемент будет в какой-то степени попыткой восстановить, сымитировать или поностальгировать по тому времени и тому празднику красивой жизни, который обходился без них и без их родственников до Первой мировой войны.
На эту идею будет работать и пищепром. Изысканный французский соус майонез с 1930-х годов начинает массово производиться в России. Кулинарные книги этого времени не упрощают кухню, а пытаются воспроизвести рецепты блюд, которые были доступны только посетителям фешенебельных ресторанов Петербурга и Москвы.
Представление о шикарной жизни начинает распространяться и на другие сферы. Какие еще были атрибуты элиты Российской империи? Ну, конечно, дачи – «дареные земли», появившиеся еще при Петре Первом.
Указ о раздаче земли под Петербургом своим приближенным издан еще в 1703 году для того, чтобы как-то заселить окрестности будущей столицы. В течение XVIII века дачами называются такие усадьбы, подарки для знати, состоящие, как правило, из нескольких сотен десятин, имеющие в центре барский дом и фруктовый сад вокруг него. При Екатерине Второй даче придается модный оттенок английского парка с летним дворцом или павильоном, с регулярным парком. Это становится местом светских приемов и театральных представлений.
С 1935 года в СССР появляются служебные дачи для представителей ведомств, разнарядки на писательские или академические дачи. Именно со второй половины 1930-х годов дача как будто бы возрождается в том понимании, которое она имела до революции.
К концу 1980-х годов около 18 миллионов советских семей уже имеют свой участок. Пускай пока он формально не в их собственности, но тем не менее это их дача. И понятие «дача» становится массовым.
То, что было элитарным способом провести летний досуг для интеллигенции или буржуазии Российской империи, становится частью повседневной массовой жизни советских людей.
Таким образом мы можем расшифровать то, каким был идеал советского потребления и советской роскоши, которая в этот момент как с конвейера расходится в массы. В глазах советской геронтократии восстановление атрибутов жизни, относящихся к поздней Российской империи, и было вектором создания постреволюционной счастливой жизни.
Родившись в первые годы XX века, многие из членов новой советской администрации смотрели на праздник буржуазной жизни только через окна детьми. И когда они стали полновластными руководителями страны, захотели воспроизвести этот праздник, на который сами не смогли попасть. Сделать его доступным каждому советскому гражданину.
СССР осуществил мещанскую мечту
Другой важной идеей улучшения советского быта стало массовое строительство жилья, чтобы у каждой семьи были свои квадратные метры.
Уплотнение, подселение, попытка рационального использования комнат для того, чтобы в них проживало больше людей, не могли решить той проблемы, с которой столкнулось не только советское общество, но и весь мир. В условиях урбанизации, массового роста населения городов трудно было ускорить темпы строительства достойного жилья для того, чтобы у каждого гражданина или у семьи были достаточно хорошие условия проживания.
При Сталине строительство жилья выходит на рекордные темпы. Сталинская архитектура изысканная, красивая, в ней много элементов классической архитектуры и очень много деталей, которые пришли непосредственно из эпохи Возрождения. Но строительство таких зданий обходится очень дорого: за средства, на которые возводится один сталинский дом, можно возвести целый район более простого жилья.
Именно с середины 1950-х годов начинается борьба с архитектурными излишествами, и дома лишаются своей декоративной части, но при этом технологии позволяют воплотить идеи авангардистов в новой архитектуре, сделать их более простыми, функциональными и доступными для большинства людей. Хрущевские проекты сменились брежневскими девятиэтажками, потом были разные ГОСТы и разные типовые проекты домов, которыми заполнились просторы наших городов.
Советский Союз, пройдя путь от коммуналок и уплотнительного расселения до панельных спальных районов, создал беспрецедентную по темпам систему массового жилищного строительства, где социальная задача дать минимум квадратных метров каждой семье очень часто превалировала над долговечностью и комфортом, но при этом она радикально изменила быт, демографию и другие показатели комфортной жизни в стране.
При этом идея предоставить каждой семье отдельное жилье с водопроводом, электричеством и радиоточкой также в определенной степени является воплощением мещанской мечты о роскоши времен поздней Российской империи. Более того, даже интерьеры новых домов украшены так, что им могли бы позавидовать представители мещанства начала XX века.
Это и хрусталь, и фарфор, который массово производится в Советском Союзе для того, чтобы потом украшать серванты в гостиных новых квартир.
Революция, несмотря на первоначальные импульсы стереть все излишество прежнего быта, на самом деле воплотила этот идеал, сделав этот быт доступным практически каждой семье. Каждая типовая квартира является воплощением мечты начала XX века, и в этом смысле люди, которые находились у власти до 1980-х годов, свою миссию выполнили – они сделали доступной и возможность жить в роскоши, как они себе ее представляли, всему населению Советского Союза.
Другие эпизоды